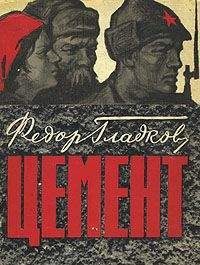— Я это помню, Даша. Но было бы лучше, если бы выступила с докладом ты: я ничего не соображаю сегодня.
— Идет, товарищ Мехова. Я доклад сделаю…
Она пытливо посмотрела на Полю и сказала строго и ласково:
— Это ты брось, Поля… Не разводи нюни, голубка. Плакать нетрудно… Ты сумей с сердцем управиться да глаза сохранить зоркими…
И насмешливо уставилась па Глеба.
— Ты можешь продолжать свой разговор с Полей, Глебушка… Я сейчас уйду.
Поля смотрела в окно и смеялась, как больная.
— Нет уж… продолжайте сами разрешать свои проблемы… а я пойду… некогда…
И Глеб вышел, красный от смущения.
В коридоре он встретил Чибиса. По обыкновению, Чибис не подал ему руки и не поздоровался. Шел он упруго, но грузно и смотрел на него не мигая, как на чужого.
— Ну, так вот, райлес, как тебе известно, отправился в уютную дыру. Он сразу же там покрылся пылью, а пыль столбом поднялась во всех отделах, и все отделы похожи на сумасшедший дом. Жук оказался хорошим дураком. Сегодня я не спал. По ночам я не сплю: сплю только утром и после обеда. Сейчас прилягу на полчаса. А знаешь, этот безрукий — великолепный человеческий экземпляр. Я говорил с ним по ночам с большим удовольствием. Буржуазия умела давать молодежи высокую культуру. Нам нужно очень многому и очень много учиться. Чтобы овладеть культурой, надо знать, как ею пользоваться, а это не так просто, мой дорогой.
— То-то я гляжу, почему это Жук перестал бродяжить и трепать языком в эти дни…
— Он — неплохой рыбак. Его нужно только держать в крепких руках. Из двух десятков расстреляем верную половину. Я передаю дело в ревтрибунал. А за ущемление нам все-таки попадет. Головотяпство. Во время партийного съезда… Раз головотяпство — обязательно склока. Как ты думаешь, кто кого съест?
— Я думаю, что Бадьина голыми руками не возьмешь — хороший деляга, но бюрократ и… бабник…
— Да-с. Что такое будни?.. Это — склока, а склока — это героизм, превращенный в обывательство. Самое веселое время у меня — ночь. Приходи ко мне, и мы с тобой забавно проведем время. Ночью видишь больше, чем днем.
— Я слышал, товарищ Чибис, что Ленин тоже не спит по ночам.
— Не знаю.
— Ну, так как же, товарищ Чибис? На улицах, выходит, — кафе с постоянным оркестром? Опять завоняло с заднего двора?
— А ты испугался? Поезжай обратно в армию: еще помуштруй себя и поучись политграмоте. Меня это нисколько не тревожит. Нужно уметь смотреть на солнце и на кровь одинаково не моргая. Не надо бояться, что солнце сожжет глаза, а кровь отравит душу.
Он поднял ресницы и усмехнулся, и Глеб увидел в глазах его младенческую ясность и огненную точку, которая беспокойно билась в зрачке и не могла остановиться.
Чибис пошел по коридору, тяжело вскидывая правое плечо, и Глеб впервые почувствовал, что этот человек смертельно устал, что в своем переутомлении он уже давно разучился спать и не знает уже разницы между днем и ночью.
1. Через Голгофу — в Каноссу
В этот солнечный день Поля опять пережила бурную встряску, как в ночь ущемления и в дни борьбы с бело-зелеными. Опять она горела восторгом и радостью, и на лице ее не было ни раздумья, ни боли, ни растерянности.
Вместе с нею в катер сели — Жидкий, Чибис, Глеб и Сергей.
Чибис поднял руки и скомандовал:
— Режем, братва! Держись крепче! Давай ход, военмор!
И уронил руку на плечо матроса, чумазого, с исковерканным лицом, в шрамах, с паклей в руках.
Далеко, на рейде, в знойных струях, стоял пароход, как огромная глыба, растущая из воды, Это был первый пароход с «покаянными».
Пристани рвались в зеленой зыби на куски и стекали в бездну жирными потоками нефти. Впереди, у носа, ломался бурун с хрустальным звоном. Позади, за кормой, у спины Глеба, снежно пенилась выше головы непадающая волна. У молов два дельфина перекатывались один за другим чугунными колесами. Искры стреляли от круглых спин и больно кололи глаза.
На набережных и массивах каботажей пестрели несчетные толпы. Давно не было пароходов. Они ушли вместе с белыми. Люди проголодались без кораблей, и теперь прибытие пароходов было настоящим событием.
Сергей смотрел на черную махину корабля и грыз ноготь на мизинце. Глеб бил его по руке, но он не мог оторваться.
— Вот оно. Через Голгофу — в Каноссу… Таков путь контрреволюции…
Жидкий покосился на Сергея, и ноздри его раздулись.
— Брось, Сережа! Это — интеллигентский бред. Так сейчас говорят только сменовеховцы.
А Сергей говорил сам с собою, а может быть, всем сразу:
— На этом корабле их — триста… и четырнадцать офицеров… Когда их не принимали в Туапсе, они сказали: «Пароход не пойдет обратно: пусть направят нас туда-то. Выйдем на берег — пусть нас расстреляют…» Это — великолепно. Сейчас они несут в себе страшно много энергии. Ее надо взять. Взять и — преобразить.
Жидкий вытаращил глаза на Сергея.
— А сколько они взяли у нас? Сколько проглочено нашей крови, наших сил — ты это учел?.. От этого голова кружится.
— Ну и что же?
Поля взглянула на Сергея и засмеялась. Она цвела весенней радостью, а ресницы и брови искрились солнцем.
— Ах, Сережа! Как бы тебя расклевали наши горластые делегатки, если бы услышали твою мудрость!..
Глеб глядел на дельфинов. Вращались два маховых колеса одно за другим — вспыхивали и тонули. Острыми мечами на спинах резали воду. И когда исчезали в глубинах, вода плавилась густо, без воли, без всплесков. Так же могуче и крылато в железном полете мчались маховики у дизелей на заводе и потрясали электрическим насыщением. Их было много когда-то в легком воздушном движении, а теперь — только два. Их жизни воплощаются вон там, в кратерной впадине гор, вон ползают черепахами две вагонетки — и вверх, и вниз, и ближе — по магистрали, вереницей навстречу друг другу, минуя друг друга, одна за другою, длинной цепочкой, много других вагонеток. А вот эти заряженные животной кровью колеса расточительно уносят в морские недра драгоценную солнечную энергию…
Пристани уже далеко. Горы, мерцающие медью в изломах, в фиолетовой мгле, колыбельно качаются — плавают в море. Это играет катер на зыби, и корабль вздымается и падает, закрывает полнеба и громоздится небоскребом. И Чибис, и Жидкий, и Поля — все кажутся маленькими и четкими, как в выпуклом зеркале. И он, Глеб, — маленький, только сердце — большое, больше его самого.
Сергей не отрывал влажных глаз от парохода и кусал мизинец.
В утробе корабля грохотали перезвоны металла.
Сверху, с борта парохода, смотрело множество пепельных лиц. Люди глядели вниз немигающими глазами, махали тысячами рук и выли. В высоте, за каруселями канатов и лебедок, сизый вихрился дым. Внизу, на волнах масляной зыби, плескался, трещал пулеметом маленький катер с красным полотном на корме — грозная пылинка огненной РСФСР.
Англичанин в позументе — должно быть, капитан — стоял у трапа, опирался на парапет и бесстрастно смотрел вниз на летающий катер в волнах.
Далекая набережная струилась и цвела маковым полем.
А в утробе парохода грохотало железо глухим потрясающим громом.
Серые люди сбивались потной, вонючей толпой. Это были восставшие мертвецы, — тиф, цветущий плесенью. И нельзя было различить, где офицер, где солдат.
Жидкий говорил с англичанином а позументе и сам был похож на англичанина.
Чибис стоял в желтой коже и говорил бесстрастно и отчетливо:
— Офицеры — вперед и ближе! Остальные — назад!
Толпа очистила место на палубе. И место это показалось лобным.
Торопливо пробрались сквозь толпу бравые оборванцы с голодной водянкой и грязью в лицах.
Поля озорно усмехнулась.
— Смотри, Глеб; это — удавленники. Они целовали ручки у дам. Протухли, как жужелицы…
Голос Чибиса был ровный и тусклый:
— Вы — наши враги. Вы нас ненавидите. Вы тысячами истребляли нас — рабочих и крестьян. Вы ехали и надеялись, что найдете здесь не смерть, а жизнь. Зачем вы приехали в Советскую Россию?
С серебряной щетиной на челюстях вышел старик.
— Мы не боимся ответа… о нет!.. Мы — только мучительно уставшие люди… Разбитый враг — не враг. Разве мы пережили меньше, чем вы? Кроме родины, у нас ничего нет, и нет вне родины. Мы — прокляты, и в проклятии — наше искупление. Пусть требует от нас родина мук, смерти… Мы — готовы, мы — покорны. Вы не лишите нас этой радости…
И когда говорил, не смотрел на Чибиса, а торжественно поднимал голову к солнцу.
Чибис молча и пристально смотрел на него сквозь ресницы. Все молчали, и в этом молчании было нестерпимое ожидание. Закричал и забился маленький офицерик-юноша:
— Я был обманут… Я был слеп… Я — убийца, да… Дайте мне оправдать жизнь… Пусть умереть, по — оправдать…