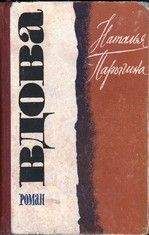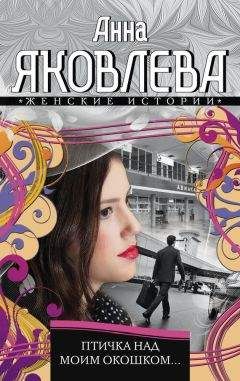Напала на Дашу робость. Непонятная сила, точно пуповина с телом матери, связала ее с Леоновкой и не пускала вперед. Но и назад не шла Даша.
То матери боялась. Теперь сама себя пугаю. Сколь же можно? Василий на учительнице женится, а мне на них глядеть? Егор с Клавдией в доме хозяева, а я у них — работница? В колхоз не вступила, а теперь кланяться пойду, чтоб приняли? Не пойду! Не ворочусь! И журавль тепла ищет. Не забоялась же Маруська...
Даша подхватила сундучок и скоро пошла вперед.
В Серебровск Даша приехала поздно вечером. Спустилась со ступенек вагона на деревянный, еле освещенный перрон, растерянно огляделась. В небольшом грязном вокзале подошла к щуплому, с короткой черной бородой мужику, сидевшему на мешке, спросила, не знает ли, как идти на стройку. Мужик вскинул на Дашу колючие глаза с красноватыми веками, отрывисто сказал:
— На стройку-то? Знаю, будь она неладна. Как не знать?
— Чего ругаешься? — удивилась Даша.
— А то и ругаюсь, что добрые люди бегут от этой самой стройки, как от дьявола, а девки-дуры, вроде тебя, лезут в пекло.
— Али худо там? — встревоженно спросила Даша.
— Погоди, узнаешь, — угрожающе проговорил мужик.
Кто-то осторожно тронул Дашу за локоть.
Даша обернулась и увидела невысокую синеглазую девушку в лаптях, в домотканой старой кофте и в длинной юбке из мешковины.
— На стройку? — спросила девушка.
— На стройку.
— Идем, провожу. Фрося!
— Я тута, — пропищала девчонка лет восьми.
— Меня Аленой зовут, — сказала девушка. — А это— сестренка. В деревне не на кого кинуть, в детдом не хочет. Забрала с собой на стройку...
Алена, ухватив сестренку за руку, двинулась к выходу. Даша следом за ней пробиралась в вокзальной тесноте. Из-под платка по спине Алены спускалась светлая толстая коса.
Дорога едва виднелась во тьме. Слева по косогору светились частые огоньки, а там, куда вела Алена, огоньки били редкие и что-то смутно белело в темном небе — то ли церковь, то ли, может, эта самая стройка.
— Я второй месяц на стройке, — сказала Алена, — а не привыкну никак, все по дому тоска грызет. Хожу на вокзал — думаю, земляков не встречу ли. И раз встретила. Не из нашей деревни, а из соседней. Магнитогорск строить подались. Поговорили, пока поезд стоял.
— Тяжко на стройке? — спросила Даша.
— Тяжко, а весело, — неторопливо, точно бы боясь сказать не так, как есть, и обдумывая каждое слово, ответила Алена. — Народу много. Десять Серповок вместе собрать — и то меньше будет людей, чем на стройке. Наша деревня Серповкой прозывается. На изгибе реки стоит, вроде серпа изогнулась, и вышла Серповка.
В темноте лунным пятном маячила перед Дашей серая кофточка, светлела толстая коса.
— Ты, поди, как косу распустишь, вся волосами укроешься, — сказала Дарья.
— Как есть вся, — подтвердила Алена.
— А в лаптях почто? Не дают на стройке ботинок?
— Дают. И не то что дают, а сам берешь. Горой свалены. Кому надо — и берут.
— Это как же? — удивилась Даша. — Это всякий по десять пар и схватит.
— Да на что ж десять? Боле одной ведь не наденешь. А я вот и одной не взяла. Они хуже лаптей, ботинки-то. Тяжелые. И рвутся скоро. Подошва деревянная, а верх — из брезента. В лаптях ловчее...
— А я лапти живо истоптала, — своим тоненьким голоском сказала Фрося. — Мне Алена на базаре сандалики купила.
— Тятька-то с мамкой померли у вас, что ли? — спросила Даша.
— Давно померли. В один год тиф обоих скосил. Фросе три годика было от роду. Так я сызмальства у попа батрачила.
Луна выглянула из-за облаков, посветлело. Белый остов церкви четко вырисовывался в темном небе.
— Служат в церкви? — спросила Даша.
— Нет. Пекарню устроили. Идешь утром мимо — хлебом пахнет, аж слюна копится.
Церковь стояла на взгорочке, темная луковица купола как бы растворялась в небе. Креста на церкви не было. Несколько белых крестов виднелось низко у земли, и Даша догадалась, что это кладбище.
Справа темнели домишки, а в отдалении светились окнами бараки. Оттуда доносились переливы гармони и песня.
— Вот она и стройка, — сказала Алена.
Даша слушала песню. Старая была песня, знакомая и Даше вдруг показалось, что длинная дорога между полями, по которой она шла до станции, поезд, Серебровск, бородатый злой мужик, Алена — все это сон, ничего этого не было, по-прежнему она в Леоновке, вон и церковь без креста, и кладбище, и песня, и гармошка.
Никто травушки не скосит,
Никто ее не сожнет,
Никто девицу, меня, не любит,
Никто замуж не берет...
— Пойдем пока с нами, пустые топчаны есть, заночуешь, — сказала Алена.
— Ты Маруську Игнатову не знаешь?
— Кто ее не знает! Приметная...
Вроде голос у Алены похолодал.
Ой, да никто девицу, меня, не любит,
Никто замуж не берет...
— Где поют — там и она. Парни к ней льнут, словно медом смазана. Ну, до свиданья... Маруську без меня найдешь.
— Даша! Дашка Родионова. Девки, это наша, из Леоновки. В гости? Али работать?
— Работать, — сказала Даша.
— Ну, идем.
Маруська взяла Дашу за руку и повела куда-то мимо бараков, потом через кладбище. Даша спотыкалась о могилы, ей жутко было среди белеющих во мраке крестов.
— Али другой дороги нету? — спросила она Маруську.
— Тут ближе. Да ты не бойся, покойники не страшные. Ты живых бойся.
Она привела Дашу в избу, которая не то на кладбище стояла, не то возле. Только что были могилы и вдруг огонек мелькнул, Даша подумала — не гнилушка ли светится, а оказалось — окно.
В просторной кухне на стене горела небольшая керосиновая лампочка. У печи стояла худая баба с жидкими, давно не чесанными волосами, в мятой юбке и грязной кофте, с угрюмым морщинистым лицом. «Чего это она какая-то вся неладная, — подумала Даша, — будто ее жевали-жевали да выплюнули».
— Это наша хозяйка, — сказала Маруська, — Ксения Опенкина. Трудящийся человек: в больнице санитаркой работает.
Сама Маруська не в пример хозяйке была нарядна. Черная юбка просторно расходилась книзу широкими клиньями, красная кофта обтягивала грудь, кашемировая шаль с кистями лежала на плечах. «Видно, и впрямь хорошо живет, — подумала Даша, — в деревне сроду у нее такой шали не водилось».
— Садись, отдыхай, — сказала Маруська, сбрасывая с плеч свою шаль. — Сейчас чай вскипятим. Как там наши?
— Здоровы. Мать тебе подарок послала, носки теплые да варежки, в сундучке у меня.
— Ладно, после. Снимай пиджак-то, снимай. Может, Ксения и тебя на квартиру возьмет.
— А чего не взять? Можно взять, — вяло проговорила Ксения.
— Поставь самовар, Ксения, — сказала Маруська хозяйским тоном, и Ксения принялась ставить самовар.
За едой, когда проголодавшаяся Даша подналегла на жареную картошку и политую маслом квашеную капусту, Маруська рассказала ей про свое житье-бытье.
— Привезли нас в Тулу. Ну, думаю, ладно, город большой, можно жить. А мы эту самую Тулу только и видели два часа, пока на вокзале сидели. Погрузили нас на машины да дальше. В голехонькое поле закинули, три барака да землянки, и палатки стоят, в палатках живут. А работа — землю рыть, какой-то химкомбинат в степи строют. Ну, конечно, что ж делать, взяли лопаты да пошли копать. И я пошла.
Маруська сидела, умостив обе руки на стол и перегнувшись к Даше. Черная коса короной лежала на голове, глубоко посаженные продолговатого разреза глаза остро глядели на Дашу.
— День копаю. Другой. Неделю. Руки болят. Плечи болят. Поясница прямо отваливается. Еда плохая. В супе крупинка крупинку не догонит, кашу по тарелке размажешь, а есть нечего. И все собрания, каждый день собрания, как, бывало, в Леоновке перед колхозом. «Преодолеем трудности, построим комбинат... Выполним, перевыполним...» Я слушаю, а сама думаю: зачем мне это нужно-то, этот самый комбинат? Коммунисты, комсомольцы — тем уж некуда деваться, положено всякие трудности переживать, а мне-то за что мою молодую жизнь губить? Ты в комсомол не вступила?
— Нет.
— И правильно. Они вон здесь не то что днем — по ночам покою не знают, сверхурочную землю копают. Ну вот... И стала я, Даша, приглядываться, как бы поладней-то устроиться. В столовке с девчатами поговорила, не надо ли, мол, еще работницу в столовку. Не надо, говорят. А после одна из этих же, из столовских, и рассказала мне про Серебровск. Там, говорит, стройка при городе. И только начинается. Каучуковый завод, каучук на нем будут делать.
— Чего? — не поняла Даша.
— Каучук. Вроде резины, что ли. Да по мне — что бы ни делали, лишь бы самой прилепиться. Я — расчет, да сюда. Сначала посудницей взяли, а после на мое счастье повариха заболела, уволилась, меня поварихой поставили. И живу,— гордо заключила Маруська.
Ксения ушла за ситцевую занавеску, отделившую угол за печью. За занавеской стояла деревянная кровать. Когда Ксения легла, кровать пискляво заскрипела. Но теперь было тихо. Хозяйка не то спала, не то притворялась.