…Аарне был не совсем прав. Не одно только любопытство привело моих туристов к врачу: многие из них были действительно нездоровы. Высокий, сухопарый мужчина плохо слышал. Он сказал, что болен уже около десяти лет, но ни разу не был у врача.
— Мы направим вас в специальную клинику для исследований, — сказала молодая докторша, которая вела прием.
— А это не будет мне много стоить? — спросил мужчина.
— Нет, это ничего не стоит, — успокоила его докторша, и мужчина шепотом передавал потом в коридоре ее слова своим товарищам.
— Она сказала, что мне это ничего не будет стоить, — говорил он.
— Не только тебе. Это всем ничего не стоит. Такие уж здесь порядки! — отвечали туристы. И я чувствовала, что наши порядки им нравятся.
7
Ночью кто-то стучит в мою дверь. Я вскакиваю и выглядываю в коридор. Дежурная по этажу взволнованно смотрит на меня:
— Ваш турист заболел. Ему очень плохо. Его номер сто двадцать один.
Натягивая халат, я мучительно вспоминаю, кто же живет в номере сто двадцать один. Женщины все размещены в четных номерах. Сто двадцать первый — одиночный номер. Одиночные номера у нас имеют Аарне, худой глуховатый мужчина и Асикайнен. Конечно, это Асикайнен.
Сую ноги в домашние туфли и бегу по коридору. Двери все одинаковые. Номер сто пятнадцать… сто семнадцать… сто двадцать один. Открываю дверь.
У постели горит ночник. Комната слабо освещена, и на потолке колышутся длинные, вытянутые тени. Люди склонились над кроватью.
На кровати тяжело и прерывисто дышит Асикайнен. У него на лбу — капли пота. Руки большие и неестественно бледные, бессознательно теребят простыню. Человек в халате, со стриженым затылком, поворачивается ко мне. Аарне. Он кивает мне головой и спрашивает:
— Врача можно вызвать?
— Врача! Конечно, врача! — Что же это я стою и ничего не делаю! Выхожу в коридор. Бегом — к телефону. Говорю шепотом: — Врача пришлите. Пожалуйста. В гостиницу.
Мне отвечает голос, спокойный и холодный:
— Говорите громче. Ничего не слышу.
Действительно, что это я говорю шепотом?
— Возраст больного?.. Симптомы заболевания?
Что это они выспрашивают, когда надо ехать! Скорей! Не теряя ни минуты!
— Вы приезжайте. Все узнаете. Приезжайте скорее.
Где-то женщина с холодным голосом кладет трубку на рычаг. Скоро приедут.
Я возвращаюсь в сто двадцать первый номер. Горничная стоит неподвижно у ног больного, сложив руки на животе. Аарне наклонился к Асикайнену. Прерывистое, тяжелое дыхание. Мне страшно. «Под вашу ответственность», — говорил управляющий. А что я могу сделать, если он дышит так тяжело! Что я могу сделать?!
На цыпочках я подхожу к постели.
— Может, мокрое полотенце на голову? А?
Аарне смотрит на меня, потом улыбается. Улыбается чуть-чуть.
— Ничего, Ася, не волнуйтесь. Все будет хорошо.
Мы молчим. Я тихонько выхожу в коридор. Встретить врача. В коридоре светло и очень тихо. Он сказал, что под мою ответственность. Но ведь я не могу отвечать за здоровье своих туристов. Как же быть? Об этом я забыла спросить, когда выезжала из Ленинграда. Как быть, если вот так умирает доверенный мне человек?! То успокаиваюсь, то начинаю волноваться снова. Хожу по коридору. Тихо. Даже не скрипнет половица. Звук моих шагов тонет в мягком ковре.
Вот идет женщина-врач. С ней двое мужчин в белых халатах. Я подхожу к ним:
— Доктор! Он тяжело дышит. У него, наверное, с сердцем.
— Какой номер?
— Сто двадцать первый. Вот!
Я зажигаю люстру, и в комнате становится светло… Исчезают призрачные тени с потолка и стен, и сразу видно, какой в комнате беспорядок. Разбросана одежда, на столе рассыпан пепел и полная пепельница окурков. Видно, Асикайнен много курил вечером.
Врач задает вопросы, я перевожу их Аарне, а он отвечает. У нее сильные мужские руки, и шприц в этих руках кажется маленьким, игрушечным. Я отхожу к окну и отодвигаю занавеску. Улица пустынна. Ночь, и в этой ночи — дома с потушенными окнами.
Я не смотрю, как Асикайнену делают укол. Чувствую только запах спирта. Слышу шаги, врач идет к столу, садится и начинает писать что-то в белой медицинской карте. Двое мужчин — наверное, санитары — сидят на стульях у стены, и один держит на коленях темный чемодан. Я снова отворачиваюсь к окну. На улицу выходит человек в белом переднике. Он начинает равномерно взмахивать метлой — подметает улицу, но шарканья этой метлы я не слышу — высоко. Что-то будет с Асикайненом? Он дышит теперь ровнее. Я подхожу к постели. Руки спокойно лежат поверх одеяла.
— Это не опасно, доктор?
— Нет, ничего угрожающего нет. Это должно пройти от укола. Если повторится, вызовите меня еще раз…
Врач уезжает. Горничная уходит. Я тушу люстру. И мы остаемся с Аарне вдвоем в комнате.
— Ты иди, Ася, спи. А я посижу здесь, — говорит Аарне. Он говорит мне «ты», но меня это не обижает.
— Нет, я посижу тоже. Вдруг еще…
Асикайнен лежит спокойно. Он, кажется, спит. Я устраиваюсь в глубоком кресле и кладу голову на мягкую спинку. Закрываю глаза. Каплет вода в умывальнике: тин-тон, тин-тон…
Просыпаюсь, сама не знаю отчего. Сижу минуту неподвижно. Слушаю. Прошел дождь. Это слышно по тому, как шелестят мягко шины об асфальт. И одинокие капли ударяют в стекло: тин-тон. А может, это вода, в умывальнике? Асикайнен дышит тихо. Так тихо, что я подымаюсь, подхожу к кровати, прислушиваюсь: дышит, спит! Аарне тоже спит в кресле у окна. Я сажусь в кресло. Где-то далеко бьют часы. Скоро утро…
8
Итак, сегодня целый день — на выставке. Обедать будем там же, в ресторане «Золотой колос». Жаль, что Асикайнен не может поехать с нами. Он чувствует себя лучше и даже сказал мне утром, улыбаясь:
— Вот теперь вы поедете на экскурсию без меня. Жаль…
— Что вы, господин Асикайнен…
— Не господин — товарищ.
— Прекрасно — товарищ! Вы выздоровеете, и мы поедем с вами на выставку вдвоем. Хорошо?
Асикайнен поворачивает к Аарне бледное лицо:
— Разве плохо? Как ты думаешь, Аарне?
Аарне морщит нос, растягивает губы и приставляет себе пару рожек. Получается чертик. Чертик шевелит рожками и говорит тонким голосом:
— Это прекрасно. Это великолепно. Будь здоров, дружище.
Мы все смеемся. Я машу Асикайнену рукой: поправляйтесь, товарищ!
Итак, мы едем на выставку. Почти все уже собрались в автобусе. И, как всегда, около автобуса — толпа наших советских людей. Жмут руки, улыбаются, обмениваются значками. Кто-то трогает меня за руку. Выглядываю из окна. На тротуаре стоит молодой парень и протягивает мне значок. Я удивленно смотрю на него: что ему нужно?
— На память, — говорит парень. — Возьмите на память о Москве.
Я смеюсь: парень принял меня за туристку. Я молча отстегиваю значок со своего пальто и протягиваю парню.
— Дружба, — говорит парень.
— Дружба, — повторяю я за ним. И прибавляю по-фински: — Рауха — мир!
— Откуда? Из какого города? — спрашивает парень. — Город какой? Хельсинки? Турку?
Я качаю головой:
— Лахти.
Парень стучит пальцем себе в грудь:
— А я — Ленинград. Слышали: Ленинград? На Неве город.
Я не выдерживаю больше:
— Я тоже Ленинград. Тоже город на Неве!
Я смеюсь над парнем. А он растерянно смотрит на меня. Автобус трогается. Медленно рассекая толпу пешеходов, автобус минует шумный перекресток. Я выглядываю из окна. Парень стоит на тротуаре и озадаченно смотрит нам вслед. Я машу ему рукой.
9
В ресторане «Золотой колос» я сажусь за один стол с Микколайненом и его сыном. Сыну, наверное, лет двадцать. У него бледное, несколько отечное лицо и странный, неприятный взгляд прищуренных глаз. Он смотрит всегда очень пристально, и от этого с его лица не сходит выражение крайней напряженности и не разглаживаются морщины между бровями. Он почти ничего не видит. Я знаю историю его болезни, потому что сама ездила с ним и его отцом в институт, а потом на оптическую фабрику, где ему заказали специальные цилиндрические очки. Тогда господин Микколайнен был молчалив и говорил только о здоровье сына.
Он и сейчас молчит. Подвигает сыну тарелку и кладет с ним рядом кусок хлеба. Потом он поднимает на меня глаза.
— Как вам понравилась выставка, господин Микколайнен? — спрашиваю я.
— Выставка — это чудесно. И сегодня такой хороший день — настоящая весна. Вы знаете, вот мы живем в маленьком городке, никуда не выезжаем, мы с женой целыми днями работаем, а по вечерам ходим к нашим родителям — они уже очень старые — пить кофе. И вот для нас очутиться вдруг здесь — это… как бы вам сказать… это переживание. Когда я смотрю на все это, я думаю: неужели и здесь, на этой земле, существуют несчастья? Кушай, Лео, кушай. Хлеб я положил тебе справа. Так вот, я спрашиваю: неужели и здесь существуют несчастья? Вы знаете, мы с женой были счастливы. У нас свой маленький домик — сейчас я покажу вам его фотографию, мы строили его сами, а землю нам подарили родители на свадьбу, — сейчас я вам покажу его. Нет, куда-то положил, не найду. Свой дом, работа — что еще нужно человеку для счастья? Право, — он усмехнулся, — грех было обижаться. И мы были счастливы. И когда родился мальчик, мы тоже были счастливы. У нас были кое-какие деньги, и мы могли воспитать сына. Мы назвали мальчика Лео. Вы знаете, Лео не финское имя, и многим не нравилось, что мы называем его так, но моя жена так была счастлива, а имя Лео — такое красивое имя, что мы назвали его Лео. Я копил деньги, чтобы приобрести мастерскую, и наконец купил ее, маленькую мастерскую по изготовлению картонных ящиков и коробок. Мастерская такая маленькая, что я работал в ней один, да и много ли коробок и ящиков нужно такому маленькому городу, как наш? Но я мечтал, что со временем мой сын Лео войдет в дело и мы расширимся. Ведь мы могли бы продавать коробки и в другие города — я работаю хорошо, и на мои коробки еще никто не жаловался. И я мечтал о том времени, когда Лео вырастет. Но он рос слепым. Вернее, почти слепым. Сначала он видел что-то, а годам к восьми ослеп. Нет, Лео, второе еще не подали, а это пустая тарелка.
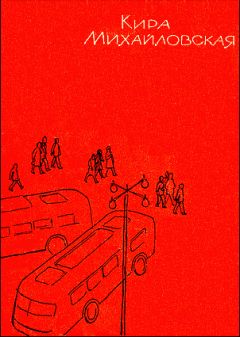
![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)



