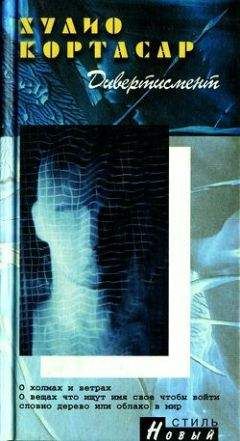«Как в шлеме, — подумал Сытин, — рыцарь настоящий, мать его так...»
У Сытина была страсть, которую он ото всех скрывал. Он любил читать романы Вальтера Скотта. Он лежал на крыше у отца и гонял голубей. И все время читал романы. Только весной и осенью он охотился — тогда было не до чтения.
«Как там Андрейка? — подумал Сытин. — Парень насмерть перепугался. Даже лицо по диагонали перекосило. И орал что-то. Спаси бог, что с ним случилось... Вот неприятность! И в субботу, главное».
Сытин длинно сплюнул и закряхтел.
«Сейчас бы самая зорька пошла, — думал он, — а тут, зараза, сидишь, как паралитик какой...»
Сытин со злости неловко пошевелился, и ногу от этого прокололо длинной, страшной иглой боли. Сытин застонал и сразу же увидел лицо своего отца, которого он никогда и никому не позволял называть приемным. Когда Сытину было плохо, он всегда почему-то вспоминал старика. Это было неосознанно, но это было, как правило, всегда.
Сытину стало приятно, что он смог представить отца так ясно. Ему не хотелось снова остаться один на один с темнотой, с болью, с каменным мешком, который давил на него со всех сторон. И Сытин стал вспоминать дом, старика и охоту. Отчего-то ему вспомнилось, как старика решили снять с егерства по старости. Старик сам очень потешно рассказывал об этом. Он рассказывал, как к нему приехал инспектор из области — уговаривать уйти на пенсию.
«У него все с иголочки, — говорил старик, — ружье блестит, как паровоз, патронташ скрипучий, гильза медная, сапог дерьмом воняет — нехоженый, значит. Ладно. Я смотрю, беседу веду спокойную, на его вопросы о здоровье отвечаю. Смотрю, он между делом патроны стал заряжать. Стакан цельный пороха сыплет в гильзу. Ладно. Ну, думаю, аукнется тебе моя обеспеченная пенсионная старость».
И Антон Сытин засмеялся, вспоминая о тех событиях, которые случились на егерской заимке поутру, на зорьке.
Смех человека, заваленного в шахте, затиснутого в каменный мешок, где темнота такая, что поднеси к глазу белую бумагу — не увидишь, где тишина такая, что каждый шорох кажется грохотом, — смех человека здесь, в каменном мешке, казался диким и противоестественным. Отсмеявшись, Сытин снова увидел хитрые глаза старика, добрые морщинки на висках, он увидел руки, вечно в ссадинах и ранках от рыболовных крючков и от ожогов, он увидел всего его — ссохшегося, совсем невесомого, такого доброго и родного человека. Сытин увидел старика так отчетливо, будто его показывали в кино. Антону стало немного страшно из-за этого, и он снова засмеялся. Но теперь уже его смех не был таким, как в первый раз. Теперь он смеялся для самого себя, чтобы попробовать еще раз убедить себя — с ним, Антоном, ничего плохого не может случиться. Никак не может. Его откопают и ногу быстренько отремонтируют. Иначе не может быть. Потому что, во-первых, он еще не дорубил всего золота, как обещал в Кремле, а во-вторых, старику без него будет худо. А этого никак не должно быть. Антон Сытин отвечает перед самим собой за то, чтобы старик всегда мог оставаться егерем и варить уху, гонять вместе с сыном голубей и радоваться каждую субботу приходу Строкача, Аверьянова и Антона.
Сытин думал обо всем этом и чувствовал, как он фальшивил, когда смеялся второй раз. И чтобы это сознание того, как фальшиво он смеялся, не мучило его, Антон снова стал вспоминать историю про инспектора, который хотел перевести старика на пенсию. Эту историю старик рассказывал каждый раз после удачной охоты.
«— Слышь, — продолжал рассказывать старик, — зарядил он свои гильзы и айда стрелять птицу. Увидел утку, взмахнул ружье свое да как лупцанет! Сам-то он в одну сторону, ружье в другую, а дробь словно звук из граммофона полетела».
Кончая свой рассказ, старик каждый раз так по-детски, так искренне и радостно смеялся, что и всем остальным удержаться не было никакой возможности, хотя все друзья Антона слыхали эту историю по крайней мере раз тридцать.
Сытин вспоминал, как старик хохотал и плакал от натужного смеха, и чувствовал, что сейчас и сам рассмеется. Он вдруг подумал: искренен ли будет его смех? Подумав, Антон решил, что смеяться сейчас он будет не фальшиво, не как во второй раз, а спокойно и от души. Когда Сытин понял, что сейчас ему хочется смеяться, смеяться по-настоящему, оттого, что смешно, а не для самоуспокоения, он вздохнул и смеяться не стал. Он только улыбнулся в темноте — и самому себе и своему старикану.
Кап! Кап! Кап!
Где-то совсем рядом все время капала вода. Если закрыть глаза и не думать о том, где сейчас находишься, может показаться, будто только-только отгрохотал весенний, шалый ливень и капли, стекая с водостока, гулко плюхаются в большую деревянную бочку, поставленную специально для дождевой воды.
Когда Андрейка был мальчишкой, он играл в такой бочке в морские сражения, потому что в поселке не было ни пруда, ни речки. А когда наконец построили пруд, Андрейка уже учился в фабзавуче. Ему очень хотелось поиграть в морские сражения, построить настоящие большие корабли из дерева и фанеры, но он понимал, что ребята засмеют, и поэтому никогда больше не играл в морские сражения...
Андрейка нащупал в кармане спички. Он достал их, выпустил побольше струю в карбидке и зажег пламя. Вообще-то он не хотел зажигать карбидку, чтобы не видеть своей западни. А он был в западне, в самой настоящей западне. Порода обвалилась здесь большими пластами, завалив все. Осталось только двухметровое пространство, похожее на платяной шкаф. И в этом шкафу, лишенный возможности не то что двигаться, а даже просто присесть, уже десятый час кряду маялся Андрейка.
Ему не хотелось зажигать карбидку еще и потому, что внизу, как раз под ногами, лежала фляга с водой. Но достать флягу Андрейка не мог. Он не мог нагнуться. Он не мог опустить руки ниже колена: со всех сторон Андрейка был стиснут породой. Ни присесть, ни прилечь, ни согнуть колен. Только стоять, все время стоять, не шевелясь, не двигаясь, даже не поворачивая головы.
И если первый раз Андрейка зажигал карбидку только для того, чтобы как-то действовать, второй, — чтобы еще раз осмотреть свою западню, то в третий раз Андрейка сразу же посмотрел себе под ноги, на флягу. Под ложечкой все время сосало, губы начали трескаться, язык сделался большим и шершавым. С каждой минутой жажда все больше и больше мучала Андрейку. Поэтому он решил зажечь карбидку в четвертый раз. Он повесил лампу на груди, зацепив крючком за карман спецовки, опустил руки вдоль тела, а носком сапога, словно мальчишка, который играет в жестку, начал подбрасывать флягу вверх. Фляга ударялась о породу и глухо брякалась вниз, к ногам. Так продолжалось много раз. Андрейка подбрасывал флягу, сцепив зубы и раздув от злости ноздри. Он начинал свирепеть все больше и больше, он понимал, что нельзя ему сейчас выходить из себя, но поделать с собой ничего не мог.
И в тот самый миг, когда, сжав кулаки, Андрейка решил: «Стоп! Хватит!» — фляга коснулась его руки. Андрейка весь так и ухнул вниз, растопырив пальцы, чтобы ухватить флягу, но было уже поздно: фляга снова брякнулась под ноги. Андрейка больно ударился лицом и коленями о породу из-за того, что весь ухнул вниз. Он рассердился и снова начал подбрасывать флягу носком сапога. Он все сильнее чувствовал жажду, все тяжелее становилась боль во всем теле, все чаще комок подкатывал к горлу и мешал дышать. И Андрейка стал подкидывать эту злополучную флягу с холодной водой что было силы. А потом, особенно зло и сильно подбросив флягу, он услыхал какое-то дребезжание. Это дребезжание с каждым ударом сапога становилось все более противным и раздражающим. А когда начала булькать вода, Андрейка понял, что сбил сапогом пробку. Замерев, он слушал, как булькала вода, выливаясь из фляги. Он долго стоял и слушал, как выливалась вода из фляги, а потом, зажмурившись, выключил карбидку и замер, стараясь расслабить тело.
Кап! Кап! Кап!
Где-то совсем рядом капала вода. Это была вода не из фляги. Просто из кварцевой жилы сочилась студеная, необычайно вкусная вода. Вода под землей, спрятанная в жилах, всегда кажется особенно вкусной. А может быть, она и на самом деле по-особенному вкусна!
Капель становилась все громче. Андрейка не мог слышать эту теперь уже грохочущую капель. Теперь грохот капели отдавался в голове страшной, рвущей болью.
«Вот черт! — подумал Андрейка. — Ну что она все каплет?!»
Пробившись к Сытину, Строкач спросил:
— Ну, как ты, Антон?
Он спросил обыкновенным своим голосом, так, будто ничего в общем-то и не случилось.
— Я? — переспросил Сытин и ответил таким же обычным голосом: — Я хорошо, а ты?
Голос его был гулким и доносился очень издалека, хотя, как казалось Строкачу, Сытин был от него метрах в трех, не больше.