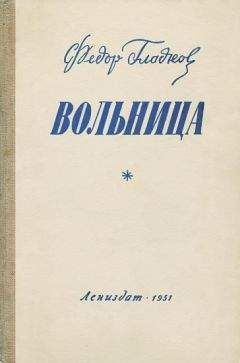Снова взялись за носилки.
Непрерывно хотелось пить, но нельзя — пот смывал комариную мазь. Савелию вдруг показалось, что мешки стали вроде бы полегче. Вначале он принял это за «второе дыхание», но нет — просто они переместились на участок, где набивали мешки те двое пижонов. Оба, впрочем, работали здесь же, и даже тогда, когда стали загружать самый дальний кунгас, предпочли остаться на своем участке. Половинчатые мешки таскать одно удовольствие: идешь неторопливо, покачиваешься в такт носилкам, покуриваешь…
— Где же это вы таких малышек нашли? — искренне удивился парень в морском бушлате, с массивной нижней челюстью. — Он ткнул пальцем в мешок, словно проверяя, что в нем, потом весело посмотрел на Савелия и Гену. — Ребята, возьмите меня к себе в компанию, я вижу, с вами не пропадешь.
— Ладно, ладно, захлопни челюсть, а то отвалится, — буркнул вмиг покрасневший Гена.
— Как хотите! — не обиделся парень и, взвалив на самую шею мешок, затопал, покряхтывая, к трапу.
К «малышкам» они больше не прикоснулись.
— А ну, подсоби-ка! — решительно потребовал Гена и ухватился за мешок.
— Гляди, гладиатор, надорвешься, — предупредил Савелий.
— Давай, давай…
Гена надул щеки и, вытаращив глаза, рванул мешок на себя. Савелий помог снизу.
— Да куда ты на шею? Сломаешь! — прохрипел Гена. — Во, теперь ладно…
— Брось! — взмолился Савелий. — Зачем тебе это, брось, а…
Но Гена ничего не ответил, сделал первый шаг. Савелий тоже, словно погонщик возле навьюченного осла.
— Не дави мешок вниз, дьявол!
— Да не давлю я — наоборот, помогаю.
— Какой «наоборот»! Погоди, вот сброшу, ты у меня получишь.
Так, переругиваясь, они дошли до трапа.
— Да отойди от меня, черт!
— Все-все, ушел.
— Ух, и получишь же ты…
— Ладно-ладно.
Вокруг собралась толпа.
— Кишка тонка, — бросил кто-то.
— А ну смелее, гладиатор! — крикнул Григорий Шелегеда.
Гену будто кто подстегнул. С разбегу взбежав на трап, он повернулся спиной к борту кунгаса и разжал руки — раздался взрыв хохота. Мешок пролетел мимо и бухнулся в воду.
— Минус один мешок, — констатировал Шелегеда.
Гена выдавил из себя улыбку, отер мокрое лицо, развел руками:
— Эт, черт! Не рассчитал маленько.
Они возвратились к своим носилкам.
— А ну, — попросил шепотом Савелий и оглянулся по сторонам.
— Чего «ну»? — не понял Гена.
— Берись, говорю.
— Кончай комедию. Видал, я и то…
— Берись, говорю!
Савелий согнулся в три погибели. Когда мешок лег на шею, он постоял так несколько секунд, словно раздумывая.
— Чего ты? — наклонился к нему Гена.
— Мне бы, понимаешь… разогнуться, а там…
— Попробуй, чем ныть.
— Да что-то не разгибаются.
— Ноги, что ли?
— Не, колени.
— Давай помогу. — Гена ухватился одной рукой за ногу чуть ниже ягодицы, а второй надавил на чашечку колена.
— Ой-ой! — неожиданно хихикнул Савелий, мешок сполз со спины.
— Чего ты?
— Да щекотно стало. Эх, жаль! Если б разогнуться, то запросто…
Подошел Шелегеда.
— Кончай, гладиаторы, экспериментировать. Сейчас будем загружать ваш славный «утюг».
Старый кунгас, который первое время Савелий путал почему-то с «лангетом», был его с Антонишиным детищем, их славой и гордостью. Им, а не кому другому, поручил Чаквария в начале путины возродить кунгас к жизни. Правда, сам инженер руководствовался несколько иными соображениями. «Откуда эти недотепы взялись? — думал он тогда. — Этого, в очках, ветер качает — вот-вот свалится. Второго бугая будто три дня колотили — только кряхтит да морщится. Бог с ними, пусть ковыряются с этой развалиной. Все равно обещали новый». Однако на всякий случай строго предупредил: «Чтоб за три дня прошпаклевали и просмолили».
Эх, старый, славный рыбацкий кунгас. Словно уснувший кит, лежал он у самого края обрывистой суши. Лет двадцать назад, а может, тому более, сработал его колхозный плотник дядя Яша. То ли под рукой не нашлось нужного материала, то ли какими другими соображениями руководствовался мастер — только кунгас вышел посудиной тяжелой, точно литой из чугуна. Словно предназначалась ему по меньшей мере судьба дежневских кочей.
Своего родителя кунгас давно пережил. Дядя Яша был похоронен где-то здесь, но берег подмывался, оползал, и море однажды поглотило кладбище… Теперь могила колхозного плотника как у настоящего моряка — в море.
В ту зиму кунгас пролежал всем своим многопудовым грузом на полустертом днище. Его забыли перевернуть и даже не подложили бревен, чтобы осенние, а потом весенние ветры выдули всю сырь, накопившуюся за лето в усталых досках.
Понятно, к концу осени колхозные чаны наполняются красной рыбой, а бочки — красной икрой, и на старый кунгас махнули рукой — новый, мол, пообещал морпорт.
Так и прозимовала посудина, полная вначале снега, а затем льда. Все бы ничего, да в середине апреля понесла нелегкая Пашку на тракторе в море за корюшкой. Сам он и не заметил бы, чего сотворил, если бы не дедушка Нноко — ветеран труда колхоза «Товарищ». Он прытко заковылял вслед трактору, замахал широкими рукавами кухлянки, но опоздал… Левой гусеницей Пашка раздавил кормовой открылок полузанесенной посудины. «Не горюй, не грусти, дедуля, — весело и беспечно крикнул он Нноко, — все одно — трын-трава…» Старику послышалось «дрова», и он сразу осекся: дрова так дрова, колхозу виднее. Только вспомнил то далекое время, когда молодым ходил на этом кунгасе до самых верховий Лососевой реки.
Получив ответственное указание Чаквария, Савелий и Антонишин обошли посудину дважды, примериваясь, откуда же начать. Впервые им предстояло иметь дело с кунгасом.
— Одних ржавых гвоздей с ведро надо повыдергивать, — пожаловался Савелий, но взял ломик и долго его рассматривал.
Лишь к вечеру они сообразили с удивлением, что выдергивание гвоздей — это еще не ремонт, а лишь приготовление к нему. Из трех отпущенных дней одного-то ведь уже нет. От такой мысли сделалось не по себе. За кунгас, какой бы он ни был старый, спросят с них. Все равно наступит час, когда соберется вся бригада, чтобы отправиться к устью Лососевой реки. А если с кунгасом выйдет чего не так? Как бы не пришлось бежать куда глаза глядят…
— Да нет! — возразил вслух своим мыслям Савелий. — Инструмент дали? Не дали. Людей? Пожалели. Э-эх!
— Не говори, — поддерживал его Антонишин, вращая шеей. — Есть же плотники в колхозе. Бог и велел им заниматься этим утюгом. — Он пнул кунгас ногой и подцепил гвоздодером край бруса, соединяющего днище посудины с бортом. — Тянем?
Савелий удачно вогнал в образовавшуюся щель топор. Старая смола по шву натянулась, лопнула. Брус обломился. Гена просунул палец и со знанием дела протянул:
— Э-те-те! Как же они плавали? Шпаклевочки-то совсем тю-тю. Ну и работнички, видать, делали!
— Погоди разглядывать, брус надо отодрать. Да не рви, не рви. Так можно обламывать до посинения.
Шпаклевка между днищем и бортом все же была, только почти вся сгнила. Савелий поддел ее гвоздем и вытянул распадающийся влажный жгут.
Согласованными движениями они отодрали остаток бруса, но у самого носа он опять обломился. Гена хотел было упрекнуть своего напарника, да осекся, разглядев, что брус в этом месте, оказывается, надставлен. И не просто, не внахлест, как обычно делают, а этакими замысловатыми ступеньками, какие увидишь лишь на уголках старинных деревянных шкатулок.
— Учись у великих мастеров! — сказал он. — Комар носа не подточит.
Так, спустя много лет, творение безвестного мастерового дяди Яши еще раз было по достоинству оценено парнями, которые ни черта не смыслили в столярном деле. Но хорошую работу видит каждый.
Подошел Чаквария, нервно пошевелил усами:
— Слушай, дорогой, так дело не пойдет. Полтора дня на одну доску! Вы что, собираетесь все лето вести тут реставрационные работы? Чтоб завтра закончили!
— Каких полтора дня? Каких полтора? — не выдержал Савелий. — Вчера, сами видели, дождь шел, потом гвозди рвали…
Гена в подтверждение просунул палец между днищем и бортом:
— Вот куда вода хлестала. И не доска это, а брус. Кстати, кунгас можно назвать творением корабельного искусства. Такое и не грех подреставрировать…
Чаквария безнадежно махнул рукой: ладно, ждать не будем, когда надо, тогда и спустим на воду.
Савелий с Антонишиным ожесточенно вырвали второй брус.
— Ломать не строить! — заключил Савелий.
Старая смола отслаивалась целыми лепехами, обнажая коричневые влажные доски.
— Лучше бы зимой позаботились перевернуть лангет, — все не унимался Савелий. — Тьфу, черт! Откуда это взялось дурацкое слово? Давай браться за корму.