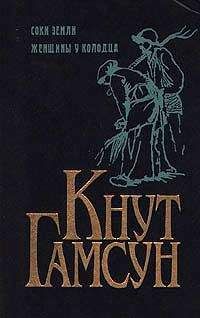Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова, – ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.
– В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами… Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя, – самая замечательная личность – ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю, даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату… Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя… А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, – вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.
Он ничего не слышит.
– Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.
– Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.
В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове, на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.
Теперь я сплю на отличном диване.
Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из глубины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловение от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания, – уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья; путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной…
Мне двадцать семь лет.
Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности такого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это было сходство форм, – нет, нечто другое: я бы сказал – половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.
Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине – плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце – маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.
Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.
Вдова Прокопович – символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?
Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.
Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!
Я засыпаю на бабичевском диване. Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше, – что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:
– О, не беспокойся. Всего четвертак.
Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.
– Это французский президент Карно, раненный анархистом, – объяснил мне отец.
Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.
Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:
В учрежденье шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан…
А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:
НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ
И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал – и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление…»
С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.
Маленький человечек в котелке шел впереди меня.
Сначала я подумал: он спешит, – но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.
Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.
Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.