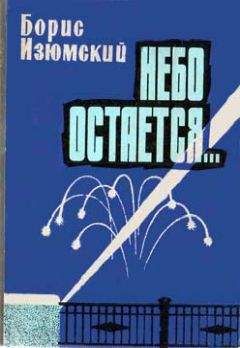Только закрылась дверь за Лилей, как Дора сказала неискренним голосом:
Какая симпатичная девушка.
— П-прекрасный человек, — ответил Максим, продолжая лежать лицом к стене.
…Мела вьюга. Лиля шла, как с похорон. Она ему совершенно не нужна… назойливая девчонка из далекой, прошлой жизни. И только.
Глупая, а чего же ты ждала?
Больше она не станет унижаться… Мог бы написать ей и после, освобождения Ростова. Значит, это ему не надо. А она-то нафантазировала… Встретил, как чужого человека… Она не собирается никому навязывать себя.
Как только вошла в дом, мама начала расспрашивать:
— Ну, как себя чувствует Максим Иванович? Небось, обрадовался?
— Ему не до меня, — скупо ответила она.
…После ухода Лили Максим стал винить себя, что держался с ней так отчужденно. Придумал какую-то жалостливую брезгливость. Да это мнительность сознания, омраченного болью. Скорее всего ничего похожего и не было.
Лиля очень повзрослела… Как мог он подобным образом вести себя? Может быть, отстранял память о школе, понимая, что возврата к ней нет? Но при чем тут Лиля? Обидел человека…
Он неудачник в личной жизни. Не зря сбежала от него жена. И мамочка уводит свою Доротею. Очень нужна ему эта кукла. Лиля в миллион раз лучше…
Максим сейчас впервые увидел не лупоглазика Лилю, а красивую девушку. Ведь это она писала ему письма в армию и вот нашла в госпитале. А он оттолкнул… За что?
Максим пытался найти себе оправдание и не мог. Невыносимо жгло у виска. Мучительно чесалась рана под гипсом, разболелось сердце. После нового укола наркотика Максим впал в забытье. Ему привиделся Лилин класс. Вот она выходит к доске отвечать… Может быть, это десятый… Нет, никогда никакого класса не будет…
Когда ему станет лучше, он напишет Лиле письмо, извинится за свое дикое поведение… Она должна понять…
Дней через пять после прихода Лили в девятнадцатой палате появился Константин Прокопьевич Костромин. Он походил на подростка с вытянутым вперед лицом. Халат на профессоре почти достигал пола.
— Ну, как дела, величайший? — была его первая фраза.
Васильцов несказанно обрадовался этому появлению, сел на кровати.
— Здравствуйте, Константин Прокопьевич. Почему величайший?
— Так латинисты толкуют ваше имя. Надо поддержать репутацию имени.
Максим, помрачнев, приподнял покалеченную руку:
— Поддержишь.
Васильцов еще в студенческие годы полюбил своего профессора. Ему нравились экспромты Константина Прокопьевича на лекциях, он никогда не был привязан к конспекту. Нравились те минуты озарения у доски, когда Костромин вдруг увлеченно устремлялся по новому пути.
Он всегда будоражил студенческие умы, вовлекал их в поиск. Мог процитировать поэтическую строку, монолог из Корнеля, утверждал, что в математике, как в музыке, есть свои ритмы — только надо их уловить. Рассматривая скульптуру, говорил о способности таланта отсекать все лишнее для выявления красоты. Приводил слова Фрэнсиса Бэкона: «Наука часто смотрит на мир взглядом, затуманенным всеми человеческими страстями».
И призывал отвергать догмы, предвзятости, личные пристрастия, самолюбие, давление авторитетов.
«Мир очень разен, — говорил он, — одному нравится „Поклонение пастухов“ Эль Греко, другому — „Женщина в белом“ Пабло Пикассо. Прелесть искусства в том, что оно вызывает разнообразные оценки. Привлекательность математики в её однозначности, но это не снимает разнообразия стилей, своего, я бы посмел употребить слово, изящества, метода исполнения, шарма, своей неповторимости у математиков разных школ. Надо создавать подкупающий пейзаж наполненных красками формул… Только профан может отрицать чувство математической красоты, не отличать ее от грубой, топорной работы».
Студенты знали, что их профессор щедр в своих идеях, неспроста призывал «распознавать глубины связей, упрощать основания, проникая в существо вещей». К тому же — и это тоже привлекало к нему молодых — Костромин не терпел хвастовства, громких речей, надменности, а к студентам относился уважительно, называл на «вы», часто по имени-отчеству. Если студент на экзамене отвечал неудачно, он никогда не унижал, как некоторые: «Лодырничал! Иди — дозревай!» — а вежливо, даже сочувственно говорил: «У вас, очевидно, не хватило времени. Может быть, вы болели? Найдите вот эту книгу… Что не поймете, не стесняйтесь спросить у меня. Как только почувствуете, что подготовились, приходите сдавать с другой группой…»
— Вы, полагаю, помните, — сказал Костромин сейчас, — поразительную историю двадцатилетнего Эвариста Галуа, убитого политическими недругами, но успевшего создать теорию групп?
— Д-да, конечно, — не понимая, к чему говорит об этом Константин Прокопьевич, подтвердил Васильцов.
— Так вот, мой ученик, а ваш однокурсник Коля Зарайский, человек отличной ревностности, написал талантливую работу, сидя в окопе перед боем. Решил труднейшую задачу, отправил ее мне, а сам вскоре погиб.
Максим представил себе белобрысенького Кольку, отчаянного игрока в пинг-понг, спорщика, человека, готового немедленно прийти на помощь любому. Так жаль парня!
«А почему профессор не говорит о моей, посланной ему с фронта, работе? Вероятно, она ничего не стоит».
— И вы сделали любопытные наброски, — сказал Константин Прокопьевич, — их напечатают в журнале «Успехи математических наук».
Васильцов ушам не поверил. Напечатают! В таком журнале?! Стараясь скрыть смущение, пробормотал стихи Данте:
И т-тут в мой р-разум глянул блеск с высот,
Неся свершенья всех его усилий…
— «Рай», песня тридцать третья, — скупо улыбнулся Костромин и деловито продолжил: — Нам надо создавать кафедру… Вот, имею честь набирать аспирантуру… Врачи госпиталя сказали мне, что вас вчистую откомиссуют. Изъясняясь языком прошлого столетия, — он был склонен к старомодным оборотам речи, — я хотел бы приковать вас к колеснице науки… Пригласить к себе… Забрать, так сказать, на наш фронт…
Это было неожиданно. Максима долгие недели мучила мысль: неужели придется навсегда распрощаться с математикой? И вдруг открывалась новая возможность не покидать ее.
— Но я п-прирожденный ш-школьный учитель! — воскликнул Максим, уговаривая себя, что сможет возвратиться в школу, и считая, что путь туда ему заказан.
— Смею надеяться, станете педагогом в высшей школе, — настойчиво возразил профессор.
— Но, может быть, у меня н-нет математической шишки или она з-задубела, — полушутливо-полусерьезно сказал Васильцов.
— Пресловутые математические шишки, специзвилины — выдумки досужих умов… Все есть у вас, что надо… И нужный склад ума. Математика никуда от вас не уйдет, только будет высшей.
— Вот н-не ожидал, — растерянно произнес Васильцов, — можно, профессор, я подумаю?
Константину Прокопьевичу даже понравилась эта просьба.
— Конечно, подумать надо. Я оставлю вам свой телефон… Если изъявите согласие…
Только Костромин скрылся за дверью, как Палладий бесцеремонно пробасил на всю палату:
— Дерзай, старший лейтенант, академиком будешь!
Дора поглядывала на Васильцова с повышенным любопытством, словно что-то прикидывая, а ее отец промычал неопределенно: «Д-да…» Лейтенант же, по своему обыкновению, отирался где-то возле сестры Тины; завлекая ее своими искусственными ямочками.
* * *
Профессор не захотел ехать домой трамваем и, прихрамывая, пошел пешком — от площади Карла Маркса к Театральной.
Во втузе, где он теперь работал, кафедру высшей математики, по существу, создавали заново.
В ноябре сорок первого года Костромин при бомбежке Ростова был ранен в бедро, эвакуирован в железноводский госпиталь, но и туда докатилась фашистская волна.
Теперь в анкете Костромина появилась криминальная строчка: «Оставался на оккупированной территории». Иные из тех, кто успел эвакуироваться, относились к нему с подозрением или уж, во всяком случае, с недоверием. Они ведь уехали, а он остался. Сам.
Константин Прокопьевич перешел на работу во втуз. Но и здесь завкафедрой профессор Борщев, благополучно отсидевшийся в тылу, смотрел на него косо.
Ну, да бог с ними, важно возводить науку, а ее можно возводить с такими ребятами, как Васильцов.
Немец, который вел Олю Скворцову, цепко держа выше локтя, вошел с ней в полутемный складской амбар с узкими окнами у потолка и штабелями ящиков вдоль стен. Посреди амбара за столом, составленным из таких же ящиков, накрытых мешком, сидело еще трое немцев, в шортах, без рубах, с номерками на цепочках, свешивавшихся с шеи.
Перед немцами стояли высокие бутылки со шнапсом, горчица, лежало нарезанное ломтиками розовое сало.