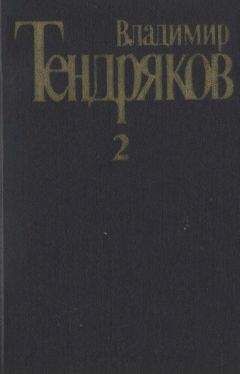Отец остановился, нагнулся и полной пригоршней забрал землю, поднес к лицу. Трактор, с деловитостью втянувшегося в работу труженика, попыхивая, удалялся.
— Чуешь, пахнет?.. — произнес отец.
Саша тоже схватил горсть, поднес к носу. Но земля пахла землей.
— Не поймешь ты — мал. Я в твои годы мог понять. Чистый хлебушко только в праздники ел, в будни-то на мякинке… Нужно бы так, чтоб хлеб как воздух был, чтоб о нем люди не думали.
Не через слова — они и на самом деле были не совсем понятны, — через подобревший голос, через непривычно мягкое лицо отца шестилетний Саша почувствовал тогда смутную благодарность к земле. Как драгоценность, держал ее, горсть влажных крошек, по-отцовски бережливо мял, нюхал. Земля пахла землей.
И еще воспоминание… Саша в тесноватом пиджаке, в чистой рубашке, отглаженном пионерском галстуке сидит в пролетке на сене, прислонившись к теплому боку отца. Отец едет в командировку, по пути везет Сашу в пионерлагерь, в село Каемково, захлестнутое петлей реки Шоры.
От реки через кусты на мокрую косовицу, как перебродившее тесто через край квашни, набухая, сочился туман. Под косыми лучами только что поднявшегося солнца, в молочной глубине тумана стояла размытая радуга. Чайка вырвалась из тумана, пошла свечой вверх, прежде чем скрыться из глаз, долго мерцала белой точкой на небе.
Даже отец, в последнее время приходивший домой всегда за полночь, хмурый, с ввалившимися глазами, повеселел, оглянулся, выдохнул одно слово:
— Красота.
Въехали в деревню. Голосили петухи, по-коростельи скрипел несмазанный ворот колодца. Под окнами одной избы на усадьбе стояли суслоны совсем зеленого ячменя. Саша показал на них отцу:
— Гляди! Вот чудаки — зеленым жнут.
Отец оборвал его сердитым взглядом и негромко произнес:
— Над бедой не смеются, Сашка.
Под смачное пришлепывание лошадиных копыт о жирную утреннюю пыль отец суровым голосом сообщил, что зеленым жнут потому, что в этих домах давно уже не ели хлеба.
Хорошее долго живет, плохое быстро забывается. В Коршуновском районе с неохотой вспоминают о тяжелом сорок шестом годе, свалившемся сразу после войны.
Отец рассказывал, а вокруг миновавшей деревню пролетки набирало силу радостное утро. Упрямый ветерок бережно очищал берег реки от тумана, загоняя его в сумрачную чащу елей. Луг, расписанный извилистыми тропинками, местами был морозно-матовый от росы, местами сияюще-зеленый. В этот раз отец впервые сказал Саше слова:
— Красива наша земля. А на такой вот красивой земле надо сделать красивую жизнь. Споткнусь, не удастся мне — ты ее сделаешь. Вырастешь, смотри, Сашка, не гонись за длинным рублем.
Жил рядом близкий человек, глядел на мир озабоченными глазами, в минуты откровенности говорил о самом большом своем желании — о красивой жизни на красивой земле, вечерами устало и неохотно ужинал, любил качать на колене самую младшую, Ленку, напевая чуточку сипловатым баском одну и ту же песенку:
Среди леса, среди гор
Едет дядюшка Егор —
Лапотки кленовые,
Онучки новые…
И заботы его близки.
И привычки его знакомы.
И мечты его стали уже Сашиными мечтами.
Близкий, самый близкий из всех на свете.
И вот прохладный запах влажного песка, свежая, не затянутая дерновиной могила…
По накаленному солнцем булыжнику Саша вел домой мать. Она, выкричавшая еще на кладбище свое горе, не плакала, время от времени болезненно вздрагивала на его плече. Саша, поддерживая мать, шагал непослушными ногами и озирался. Исчезла боль, исчезло и горе, осталось недоумение, тяжелое и тупое. Нет его! Ни в командировке, ни в отъезде — совсем нет. Не придет, не вернется, ждать некого… Непонятно, нелепо!
Озираясь, в эту минуту он с какой-то особенной, резкой отчетливостью замечал все, что творилось кругом. Каждая мелочь вызывала болезненное удивление.
С визгом, захлебываясь от восторга, выскочил из-под подворотни щенок-коротышка с победоносно закрученным хвостом и накинулся на поросенка. Тот с досадливым равнодушием повернулся к щенку задом.
Знакомый Саше киномеханик Славка Калачев ремонтировал плетень у своего дома, насвистывая тихонько и беспечно «Любушку».
За спиной каким-то свежим, беспечным смехом засмеялась Катя Зеленцова. С похорон идет…
Щенок радуется, визжит. Славка высвистывает: «Люба, Любушка…» Катя смеется… Все как было, все по-старому. А отца нет. Да как же это? Неужели надо смириться? Неужели надо забыть? Нет! Невозможно! Как жить дальше?
А дома Сашу удивила мать.
Он бережно усадил ее на кровать. С опухшим лицом, бессильная, размякшая, она с минуту смотрела бессмысленными глазами в грудь сыну, потом подняла их, взглянула просяще и слабым голосом произнесла тот же вопрос, который мучил и Сашу:
— Сашенька, как нам жить дальше? — Помолчала, всхлипнула и закончила: — Велика ли пенсия. Машеньке вот пальто купить надо.
Как «Любушка» Славки, как счастливый смех Кати, слова матери резанули по сердцу: «Пенсия, пальто… Отца же нет! До пальто ли теперь?» Материно «как жить дальше» не походило на Сашино.
Целый день удивляла и угнетала окружавшая его жизнь, будничные разговоры: «Хлеб не куплен… Обед не сварен…» В это время ему и вспомнились слова: «Когда горит дом, часы в нем все равно продолжают идти…» Страшны и значительны они показались. В душе у него пожар, уничтожение, мир перевернулся, — казалось, живое не имеет права жить. А живое жило, жизнь шла своим порядком, обычная жизнь, ни чуточки не изменившаяся. Дом горел — часы шли.
Но так было всего один день.
Утром он встал рано. Вышел на крыльцо. Мокрые доски холодили босые ноги. Двор, знакомый до каждой щепки, до последнего сучка в темной щербатой ограде, в это тихое утро неожиданно показался обновленным. Половина его была покрыта тенью соседнего дома. Молодое солнышко ласково умыло своими нежаркими лучами вторую половину двора. И эти лучи, бившие в лицо, были приятны. Приятно было слышать и неистовую суетню воробьев в мокрой листве лип. Саша стоял, жмурился, думал об отце…
Перед завтраком он деловито обсуждал с матерью, как жить дальше. Он пока не станет поступать в институт, пойдет работать, но не в контору, не в учреждение — в колхоз… Только в колхоз. Незачем и считать, какой оклад у помощника бухгалтера в маслопроме. Отец ведь говорил: «Не гонись за длинным рублем».
Мать во время обеда еще нет-нет и заливалась слезами — не могла привыкнуть к пустовавшему стулу отца. Саша привык быстрее ее.
Но каждое слово, когда-то сказанное отцом, стало для него святым законом.
Сейчас вот Игнат Егорович расспрашивал: зачем в колхоз, почему не в институт? А как ему объяснишь? Разве поймет?
Свернули с шоссе. Задевая свесившейся из пролетки ногой за придорожные кусты, Саша сидел притихший около Игната, боялся, что тот снова начнет разговор. Но председатель молчал, погонял лошадь и с опаской посматривал на небо.
А на небо из-за леса выползала, лениво разворачивалась туча. Вечернее солнце освещало ее снизу, туча местами казалась медно-красной, от этого еще более грозной. Далекий черный лес с одного конца начал исчезать, словно таял, растворялся в мутно-белесом воздухе.
— Эх! Не поспели до дождя, — досадливо крякнул Игнат.
— Может, успеем…
— Нет уж… — Игнат опустил вожжи.
Откуда-то из-за полуприкрытого дождем леса выкатился глухой гром. Лошадь, сторожко поводя ушами, пошла шагом. Беспокойно и весело заговорила трава. Листья на кустах сначала лишь встряхивались поодиночке, но вот ветер налетел на кусты, обнял их, рванул, перемешал.
Спина лошади потемнела. Минута-две — и уж не веселый ропот, а сплошной, ровный, деловито сосредоточенный шум, все разрастаясь и разрастаясь, стоял над лугом. Дождь переходил в ливень.
Игнат с озабоченным видом стал ощупывать на груди свою гимнастерку. Вдруг он стащил с головы кепку, прижал к сердцу и так остался сидеть, придерживая одной рукой вожжи, другой — кепку на груди, досадливо поглядывая на темное низкое небо. Ливень хлестал по его блестящему черепу.
— Что с вами? — беспокойно спросил Саша. — Сердцу плохо?
— Нет, сердце у меня бычье… В гимнастерке выехал, а в кармане — партбилет. Боюсь, размокнет. Уж пусть лучше макушку прополощет.
Рука Саши невольно потянулась к карману пиджака — там тоже лежал комсомольский билет. И почему-то в эту минуту он почувствовал к этому человеку близость и теплую благодарность: чем-то Игнат напомнил отца.
Дождь лил. Лошадь, пошевеливая глянцевитым крупом, бодро шла. Игнат и Саша сидели в мокрой, прилипшей к телу одежде, прижимая к груди один измятую кепку, другой — ладонь.
6
Жена Игната, под стать мужу, полная, высокая, с широким румяным лицом, смутила Сашу.