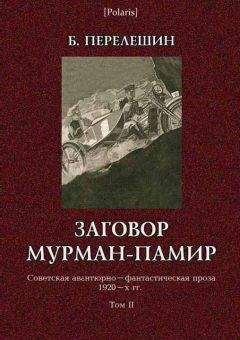Уехали домой. Катерина Павловна пересмотрела свои чемоданы и кое-что отложила, затем купила у Герасима оленьего меха. А потом все женщины становища: Катерина Павловна, Ксандра и женка Герасима два дня кроили и шили. Когда на становище приехал Колян, Катерина Павловна подарила ему все сшитое: нижнюю белую рубаху, верхнюю синюю, черные суконные штаны, тоборки и зимнюю малицу. Колян начал упираться:
— Не возьму. Много. Нельзя дарить столько. Я буду платить. У меня есть деньги, я заработал на дороге.
— Перестань! Если еще пикнешь о деньгах, верну тебе и оленей, и санки, и лайку! — пригрозила Ксандра.
На этом препирательство кончилось: Колян перенес подарки в свою куваксу.
Олени пошли к морю. Впереди «колокольная важенка», за ней все стадо, вдруг сгрудившееся без стараний пастуха и собак, а самовольно. Колян повернул свою упряжку к становищу. Куваксу он решил не таскать с собой и взял только постель, котелок, чайник и кой-какие мелочишки, необходимые в дороге.
Из докторской куваксы вылетает Черная Кисточка; обняв Коляна передними лапами, она тычется мордочкой ему в подбородок, в щеки, взвизгивает, взлаивает, вся трепещет. Если бы это можно было перевести на человеческий язык, получилось бы, наверно, самое страстное объяснение в любви.
— Ты одна дома? А где народ, где Ксандра? — Он берет собаку за уши и весело смотрит ей в глаза. — Ну, расскажи!
— А вот и Ксандра.
— Прощай! — говорит ей Колян, потом то же говорит доктору, Катерине Павловне, Герасиму, его женке. Всем одинаково.
Ксандре показалось это нарочито холодно: «Даже не протянул руки. — И тревожно: — Чем, когда обидели мы его?» Вспомнилась встреча Коляна с сестрой, такая же холодная. Но там это понятно: сестра обобрала его. А на что обиделся он здесь?
Ксандра решила проводить Коляна и подсела к нему на санки.
— Ты на кого-то сердишься? — спросила она.
— Нет. — И верно, глядел он совсем не сердито, а весело.
«Скрывает», — подумала она и, чтобы задобрить, сказала:
— Возьми обратно Черную Кисточку. У меня скучно ей: на охоту я не хожу, оленей всего три головы. И слоняется около меня, трется об ноги, заглядывает в лицо: что, мол, делать, скажи! Глядеть на нее тошно. А здесь… слышишь, как заливается? Надо будет мне собаку — возьму у Герасима. У него две без дела шатаются.
Колян не стал навязывать собачонку. А сама Черная Кисточка так обрадовалась возвращению к прежней трудовой и значительной жизни, так самозабвенно заливалась лаем возле оленей, что и не оглянулась, сколь ни звала ее Ксандра попрощаться. Так же, без оглядки, уехал и Колян.
Грустная, притихшая, полная недоумения, вернулась Ксандра в куваксу. Не обернулась собачонка — это законно, чего требовать от собачонки. Но Колян, друг!.. Она поделилась своим недоумением с отцом.
— Успокойся, Колян не унес никаких обид.
И отец рассказал, что разлуки и встречи у лопарей удивительны. Иной человек месяцы, даже годы бродит по тайге и тундре, плавает по морям, а вернется домой — и тихо, буднично сядет к очагу с единственным словом «здравствуй». И домашние не вскочат, не протянут руки, чтобы обнять его, скажут только: «А, вернулся» — и продолжают свое дело. Никакого шума, никакого надрыва. Так же и при разлуке.
Шел месяц июль, самая страдная для оленей — «комариная пора». На болотах, мшарах и всяких других непросыхающих местах, нагретых летним, незаходящим солнцем, расплодилось столько комаров, что прозрачный воздух Лапландии посерел от них, ясные голубые дали, озера, реки стали казаться задымленными. Густым туманом заволакивали комары оленей, плотно, один к другому, усаживались по всему телу. Было похоже, что на оленей надели еще шкуру, на всех одинаковую темно-серую, под которой исчезло яркое природное оленье разномастье с веселыми пятнышками и крапинками. Злодеи забирались в рот, в нос, в уши, жалили тысячами уколов, тысячами жадных хоботков тянули кровь, доводили оленей до остервенения, до безумия.
Колян надел на голову сетку-накомарник. А у оленей нет таких верных средств против комаров, много ли достанешь копытами, рогами и куцым хвостом: у них единственное мало-мальское спасение — забраться в воду, в горные снега или бежать против ветра.
Стадо Коляна, как и все прочие в это время, упрямо пробиралось к морю. Упрямо, но не прямо. В тот час, когда вышли из становища, дул свежий северяк. Олени двинулись навстречу ему. В комариную пору они стараются идти против ветра, который отгоняет комаров. Поход часа два тянулся благополучно и безостановочно. Впереди шла «колокольная важенка», по бокам стада, не давая разбредаться ему, бежали собаки, позади ехал Колян и напевал новую, навеянную походом песню:
Я теперь настоящий пастух.
Как бы широко ни разбрелись олени,
Как бы громко ни разговаривали водопады и речки,
Я все равно слышу звон колокольной важенки,
Я теперь настоящий пастух.
О-го-го, хорошо, весело жить!
Северяк стих, налетели комары, и олени кинулись в разные стороны — одни к горам, другие к озеру. Колян на своей упряжке и собаки долго гонялись за ними, пока собрали всех в озеро, куда зашла «колокольная важенка».
Колян решил воспользоваться передышкой: развел костер, повесил над ним чайник, упряжных оленей отпустил покормиться. Но чайник не успел вскипеть, как «колокольная важенка», почуяв новый ветерок, выскочила из воды и пошла против него. За ней потянулось и все стадо. А Коляну пришлось срочно заливать костер, выплеснуть недокипевший чай, ловить упряжку.
Ветер дул не с моря, и стадо сильно отклонилось от нужного пути. Еще немного, и вернулось бы на то место, где стояли куваксы доктора и Герасима. Колян уже заметил дым этих кувакс, помахал ему руками и сказал: «Здравствуй!»
Но ветер снова затих, и олени побежали от комаров к недалекой горе, которая поманила их прохладой из ущелий, где еще лежал снег. На пути встретилось болото, затянутое ярко-зеленым мхом, густо забрызганное яркими цветочками, похожее на травянистую поляну, как сестра на сестру.
Колян знал предательскую красоту таких болот — под моховой покрышкой стояла глубокая вода, дно было илистое, вязкое. Он остановил упряжку: пусть отдохнет и покормится, а сам, кликнув лаек, пошел заворачивать стадо, уже чавкавшее ногами по болоту.
Шел осторожно, не ступая, а двигая ногами, как на лыжах, порой ложился и полз. Зыбкие мхи качались, оседали, и под ними булькала вода. Каждый миг тенета мхов могли разорваться, и Колян навсегда нырнул бы под них. Иногда, опираясь на хорей, он прыгал с кочки на кочку, а вокруг стояли бездонно-темные глуби.
С каждой переменой ветра стадо меняло свое направление, забиралось во всякое озеро и речку, чтобы смыть комаров, по каким-то соображениям, непонятным Коляну, иногда неожиданно останавливалось, а потом так же неожиданно снова продолжало свой трудный, капризно причудливый путь — с забегами в сторону, возвратами назад, хитрыми завитушками. Быки и бездетные важенки рвались вперед, важенки с телятами отставали. По пятам у них, прячась за кустами, камнями и болотными кочками, шли волки.
Колян постоянно был возле стада: удерживал торопливых, подгонял отстающих; заслышав лай своих оленегонок по волкам, хватал ружье и бежал туда. Не дни, не часы, а даже минуты спокойной, беззаботной жизни выдавались редко. Если олени стояли в озере и не требовали хлопот, Коляну надо было промыслить рыбы, дичи, сварить еду, вскипятить чай. На сон по-домашнему совсем не оставалось времени, и Колян делал это по-дорожному, в санках, убаюкивая сам себя:
Пастуху-лопарю не годится спать целиком,
Надо сразу и спать и глядеть за оленями,
Вот поэтому мать-земля
Уродила меня из двух половинок.
В каждой — глаз, в каждой — ухо, рука…
На одной половинке, если надо, усну,
А другой в это время оленей пасу.
Не разом, не просто, но Колян все-таки научился этой пастушеской жизни.
Чем ближе к морю, тем чаще стали показываться олени других хозяев, потом они начали примыкать к стаду Коляна, и так набралось столько, что везде, куда хватал глаз, торчали оленьи рога. Как ни старался Колян держать свое стадо в одной кучке, оно в конце концов растворилось в массе чужих. Все реже и реже мелькали перед ним знакомые рога. Он по-прежнему ехал о край стада, где особенно зловредничали волки. Сохранить всех, конечно, не мог, но спас немало оленьих жизней.
Вдали на темно-сером каменистом краю тундры показалась узенькая полоска золотистых гребешков, которые резво прыгали, будто разыгравшиеся телята. Олени прибавили шагу. Полоска удлинялась, ширилась и скоро распахнулась неоглядным взволнованным морем, где каждую волну украшала пышная грива пены, пронизанной солнцем. Измученные комарьем, олени прямо с ходу бросились в море и потом, омытые, забрались на береговые камни.