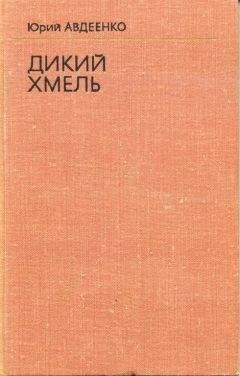— Есть.
— Я думала, пьют только в подъездах, «на троих», — я улыбнулась, может извиняясь за свое «невежество».
— Вы поможете мне, — Черкасов встал. — Она работает в вашем цехе под своей девичьей фамилией. Каменева.
Теперь мы поняли, о ком идет речь...
Когда мы остались одни, Нина Корда выпрямилась, резко отодвинула стул — он проехал по полу с таким скрипом, что я аж вздрогнула, сказала:
— Вот какие бабы бывают на белом свете... Ты с ней говори сама. Она меня в прошлом месяце до белого каления довела. Говорит, хватит меня учить, я покамест беспартийная, я член профсоюза.
Широкий, наоборот, посоветовал:
— Ты, Миронова, с Каменевой с глазу на глаз не разговаривай. Ты Доронина подключи. Он сколько лет предцехкома был. Он всех знает...
— Хорошо, — согласилась я.
У Доронина болело горло. Оно было обмотано толстым серым шарфом. И голова Ивана Сидоровича казалась гладкой и маленькой, словно бильярдный шар.
Фрося Каменева, молодая, но уже рыхловатая, вошла в кабинет с выражением покорной обреченности, неся ее на своем красивом лице торжественно, как хлебосольная хозяйка несет на блюде свежеиспеченный пирог — секрет дома. Она, скорее всего, была натуральной, а не крашеной блондинкой, и ее длинные волосы хорошо смотрелись на бледно-синем халате из японского нейлона, и шея у нее была белая и красивая.
— Здравствуй, Наташенька, — сказала она ласково и устало. И тут же села на стул. Мне не было видно из-за стола, но похоже, что полы ее широкого халата несколько распахнулись, потому что Доронин осоловело уставился на ноги женщины и стал торопливо делать движение правой рукой, которое могло означать лишь: запахнись, поправь одежду.
Каменева действительно одернула халат. Нежно и приветливо сказала Доронину:
— Не расстраивайся, Иван Сидорович. Не нарочно... — Повернулась ко мне: — Ну кто такое чучело соблазнять станет?
Доронин выпучил глаза. И я невольно потянулась за водой к графину. Но Иван Сидорович решительно поднялся, не глядя на нас, вышел из кабинета и, что было сил, хлопнул дверью.
Каменева достала из кармана пачку сигарет. Спросила:
— Не куришь?
— Нет.
— А я закурю.
— Вот пепельница.
— Спасибо.
Она смотрела на меня без интереса, словно мы сидели в этом кабинете десять, двадцать лет и до чертиков надоели друг другу.
Я, предполагавшая, что беседу с Каменевой будет вести умудренный годами и опытом Доронин, просто не знала теперь, с чего начать.
— Красивые у тебя глаза, — сказала Каменева. — Только ты их немного подкрашивай.
— Мне нельзя. Вид получается вульгарный.
— Нужно аккуратно. С боков удлинять чуть-чуть.
— Времени нет.
— Ты еще учишься?
— Учусь.
— Тоже когда-то мечтала.
— Не прошла по конкурсу?
— Силы воли у меня нет. Понимаешь?
— Нет, — призналась я. И уже не думала о том, как начну с ней разговор, пугающий, грустный, мерзкий.
— У одного человека красоты нет. У другого слуха. У третьего ума. А у меня силы воли, — Каменева разочарованно махнула рукой, коротко блеснув маникюром на тонких пальцах.
— Муж твой приходил, — твердо сказала я.
— Слышала.
— Ребенка у тебя забрать хочет.
— Когда? — равнодушно спросила она.
— Не знаю, — я растерялась.
— Пусть скажет, когда и куда привести, — голос тихий — не человек, а живая покорность.
— Хорошо. Я сообщу тебе.
— Все? — спросила Каменева. Поднялась. У дверей я остановила ее:
— Тебе не жалко?
Она посмотрела на меня тоскливо и даже немного отрешенно. Сказала:
— Далеко пойдешь.
— Почему?
— Ты любопытнее, чем другие. Меня по сто раз в день спрашивают: сколько стоит мой японский нейлоновый халатик, а я его не покупала. Мне подарили.
3
Недели две спустя утром в проходной увидела большое объявление о партийном общефабричном собрании с повесткой дня: итоги выполнения полугодового плана.
Днем Широкий прошепелявил:
— Пошкольку Корда в отпушке, от нашего цеха должны выштупать или я, или вы, Наталья Алекшеевна. Протешишт меняет у меня передний мошт, и я не проишношу половины шлов рушшкого яшыка. Придетша выштупить вам.
Эта новость привела меня в состояние паники. Выступать на цеховых собраниях стало моей привычкой. Но там были все свои, знакомые девчата. И говорить там приходилось просто, только по делу, как в обыкновенном разговоре.
Общефабричные же собрания проводились в актовом зале клуба «Альбатроса». Вместительный зал заполняли люди, многих из которых я даже не видела раньше в лицо. Ведь фабрика была огромная! Ораторы выходили на трибуну, говорили через микрофон. Они говорили о многом: о событиях в стране и за рубежом, о долге, ответственности, плане и высоком качестве продукции. Но даже лучших из них, тех, которые говорили гладко, не сбивались и не заикались, слушать было все-таки скучновато. Товарищи, сидящие в зале, без энтузиазма, исключительно из вежливости, а может привычки, хлопали в ладоши.
При мысли о том, что нужно будет подняться на трибуну и выступить с речью, у меня деревенел язык, а в голове становилось пусто, как в автомобильной камере.
Дома я расплакалась. Буров долго терпел, делал вид, что читает Шарля де Костера, наконец спросил: — Может, ты объяснишь, в чем дело?
Я, конечно, объяснила. Он налил мне боржома. И сказал:
— Выпей.
Но я не могла пить боржом, потому что вода пахла йодом.
— Я напишу тебе речь. Прочитаешь, и все.
— Я не хочу читать, — ответила я капризно.
— Сейчас так принято. Почти все читают речи, а не произносят.
— Но они читают свои речи. На фабрике все поймут, что это твоя речь, а не моя.
— Я постараюсь подделаться под твой стиль, — серьезно сказал Буров.
— Глупости, никакого моего стиля не существует.
— У каждого человека есть свой стиль, даже если он не пишет и не рисует. А ты рисуешь...
— Не могу же я произнести речь в картинках?
Он улыбнулся. Вообще он улыбался не очень красиво. Лицо его при этом глупело. Теряло строгие очертания, свойственные ему обычно.
Сказал, покачивая головой:
— Между прочим, это было бы оригинально и очень доходчиво.
— Кто бы меня понял? Могли подумать, что я просто смеюсь над людьми.
— Понять бы, допустим, поняли. Во всяком случае, большинство. Но технически такая штука в условиях «Альбатроса» неосуществима. Напишу тебе нормальную речь. И все будет просто.
— Я не хочу просто. Я не хочу нормальную речь. От нормальных речей люди зевают и хлопают только из вежливости. — Я уже начинала капризничать, ощущая сладостную радость только от одного предчувствия, что Буров будет угождать мне. Ему вообще нравилось, когда я вела себя как не очень умная и не очень взрослая женщина.
— Все понял. Речь будет рассчитана на неподдельный интерес и восторженные аплодисменты.
— Ты знаешь тайну таких речей?
— Тайна проста, как таблица умножения. Долбанешь дирекцию фабрики за недостатки. И счет будет два — ноль в твою пользу...
Я представила длинное и желтое, как желудь, лицо директора объединения «Альбатрос» Бориса Борисовича Луцкого, и мне стало немного страшно.
— Почему два — ноль? — робко спросила я.
— Первый балл за смелость. Второй — за перспективу. После этой речи ни один начальник не станет просить тебя выступать на каком-нибудь собрании или заседании.
Я хитро подмигнула Бурову:
— Если так, согласна. Пиши...
И он написал... Не думаю, что это был шедевр публицистики или откровения современника. Но... Буров занимал пост редактора фабричной газеты, работал много лет, знал проблемы, интересы фабрики в целом. И написанная им речь по своему наполнению, широте освещения была выше интересов конвейера или одного пятого цеха, от имени которого я должна была выступить. Это была речь руководящего товарища, мыслящего объемно, если не директора объединения, то по крайней мере заместителя или главного инженера.
Я поделилась своими сомнениями с Буровым:
— Понимаешь, я буду выглядеть школьником, выдающим стихотворение Пушкина за свое собственное.
Буров, довольный сравнением, соглашаясь, кивал порозовевшей лысиной.
— Почему бы тебе самому не произнести эту речь? — предложила я.
— Мне потом придется искать новую работу. А у тебя должность неснимаемая. Луцкий не снимет тебя и не посадит на конвейер своего приятеля.
Я с сомнением посмотрела на мужа:
— Может, ты преувеличиваешь страхи?
— Если самую малость... А потом, пойми, одно дело — речь в устах редактора газеты, другое — в устах женщины от конвейера. Молодой, растущей профсоюзной активистки, которая через считанные дни получит диплом инженера.
Слова его звучали убедительно и разумно. Он даже встал с кровати и зашлепал в пестрых носках по голому, не покрытому дорожкой полу. И лицо его было таким, как тогда, в Туапсе, где я вдруг полюбила его.