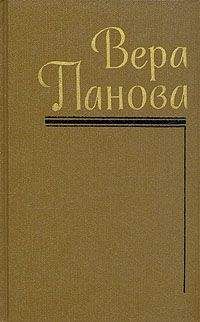Пепельный, светлый вечер лежал над полями. Тихо качались травинки. Кузнечик трещал. Сиротливо показалось кругом Алмазову, и сиротой бездомным почувствовал он себя.
Все люди, наработавшись, идут домой, а ему идти некуда. Где его дом?
Травинки закачались сильней, ветер донес издалека мерный стук колес: тах-тах-тах-тах… тах-тах-тах-тах… Это ее поезд уходит.
«Так нельзя», — подумал вдруг Алмазов.
Жить так нельзя. Одна дорога должна быть у человека. К одному чему-то надо прибиться, на одном успокоиться.
И опять стихли травы.
Устал я, понимаешь. Не по мне это.
Выбирать надо.
Устроить душу, устроить жизнь.
Жить надо.
Ночь глубокая, а дверь в доме настежь, женские голоса разговаривают на крыльце:
— Ты, Тося, не расстраивайся. Еще спасибо скажи, что так обошлось.
— День-два подержат — и выпишут.
— Да жар-то, сорок и две десятых, — говорит убитый Тосин голос.
— От перепуга жар. От такого перепуга разрыв сердца может быть, не то что жар.
Что случилось?
— Вот муж пришел, — говорит голос на крыльце, — успокоит жену. Вдвоем какая хочешь неприятность легче. Ложись, отдыхай, Тося. Сном нервы утихомирятся. Этих ребят пока вырастишь — наплачешься с ними…
Две женские фигуры спускаются с крыльца. Алмазов входит в дом. Горит электричество. Тося сидит в кухне, положив плечи и голову на стол. Катя в рубашонке сидит на кровати, смотрит большими глазами. Нади нет.
— Тося, что такое? Где Надя?
Тося поднимает серое лицо.
— Балерина-то наша… — говорит она и опять опускает голову на руки.
— Надя утонула, — говорит Катя. — Ее положили в больницу. У нее сорок и две десятых.
Алмазов садится к столу. Его не держат ноги.
— Постойте. Тося, ты была в больнице?
— Была, — синими губами отвечает Тося, — так не пускают к ней. Температуру сказали, а в палату не пускают. При мне докторша по телефону в область говорила, какое-то лекарство затребовала, я не поняла. Что-то они страшное думают и скрывают. Я говорю: скажите, ведь мой ребенок, я имею право знать! А они говорят: «Идите, мамаша, домой, завтра выяснится». Голову бы я себе разбила, если ей не жить! Никого мне нет дороже Надички!
Последние слова она прокричала в голос. Прокричав, зарыдала отчаянно, со стонами и выкриками: «Надичка! Надичка!»
Алмазов слушал эти крики, они били его по лицу.
Теперь, когда Надя чуть не утонула, когда она больна (не может быть, чтобы умерла, это Тосины страхи, а вдруг умрет?) — теперь ему, как и Тосе, казалось, что из всех близких она самая близкая и дорогая, что он был к ней несправедлив — мало любил, мало жалел, мучил придирками, не воспитывал, не уберег — кругом виноват! — что свет померкнет, если не станет Нади, дочки, девочки с серо-зелеными глазами, обведенными темной каемочкой.
Он смотрел на Тосину опущенную голову, содрогающуюся от рыданий, и явственно видел сединки в ее волосах — раньше не видел — и знал, отчего до времени стала седеть Тося.
И понимал, какое было бы преступление — оставить девочек, оставить Тосю с ее материнством, ее сединками, ее тревогами и скорбями. И так их было жалко — разрывалось сердце.
— Ну, будет, — сказал он. — Будет, Тося. — И, подойдя, погладил ее по волосам.
Она вся сникла от его прикосновения, рыданья стали тише. Он гладил, гладил ее волосы, пока она не стихла совсем.
— Теперь пойди, — сказал он, — отдохни. Утром вместе пойдем в больницу.
Он отвел ее в комнату. Она упала на кровать и сразу уснула. А он сидел рядом, курил и думал: что бы ни было, не уйти ему отсюда, из этого жилья, от Тоси, от Нади и Кати — что бы там ни было, душой не уйти.
Спит в столовой рыженькая Фима, укрытая четырьмя одеялами. Прикурнув возле нее, уснула Марья Васильевна, Фимина мать. Из-за Лукьянычевой двери доносятся длинные мучительные «а-а-ах!» — это Лукьяныч переживает свой позор и свою потерю.
Марьяна вернулась из больницы; в чулках, сняв туфли в передней, проходит в свою комнату.
Сережа спит, а лампа на столе зажжена, чтобы Сереже не было страшно, если проснется. Лампа заслонена бумажным щитом, чтобы свет не разбудил Сережу. Весь раскинулся Сережа, одеяла сбиты, с подушки сполз… Марьяна поправляет одеяла, кладет Сережину голову на подушку, целует в темя; при этом она рассказывает ему, что происходит: «Глупый, глупый, одеяла сбил, с подушки сполз, подушка сама по себе, он сам по себе, мама уложит на подушку, мама укроет, глупый, глупый…» Она задумалась, держась за изголовье кроватки и глядя на сына; лицо ее стало суровым. Эта разлука, которая чуть-чуть не совершилась, была бы ужаснее всех разлук. Сережа метнулся, заплакал тоненько, смешно — во сне, давешнее ему снится… Спи, милый, милый, мама тут, свет горит, ничего не страшно!
Шаги, осторожный стук в дверь.
— Войдите, — сказала Марьяна.
Она знала, что это Коростелев. Весь вечер знала, что сегодня он придет. И он пришел, хоть поздно. Не побоялся прийти в поздний час.
Робко сгибая спину, на цыпочках подошел к кроватке, заглянул:
— Спит… Жара нет?
— Нет.
— У Тосиной девчушки тридцать восемь и восемь. Опасались менингита. Теперь говорят — не менингит.
— Я знаю. Я только что из больницы.
— Ну! Была? Я звонил.
— Слава богу, что не менингит.
— Подумай, что могло быть. Ты подумай.
— Все мой. Сережка.
— Ну да?
— Из-за него опрокинулся челн. Я как чувствовала, ты знаешь, что нельзя его пускать. Я виновата.
— Милая ты, да в чем ты можешь быть виновата, ты и твой Сережка…
Их руки рядом на изголовье кроватки.
— Марьяша! — говорит Коростелев и кладет горячий лоб на Марьянину руку. — Я тебя полюбил. Не прогоняй меня.
Через два дня прошла гроза, и началось настоящее лето с знойными днями и теплыми вечерами.
Теплым вечером в полях звучит то удалой, то грустный голос гармони. «Степан Степаныч играет», — говорят люди, заслышав этот голос. В красном уголке веселье на всю ночь — провожают Нюшу, завтра она уезжает учиться.
Девушки устали танцевать и расселись, утираясь платочками, вокруг Степана Степаныча. Спели любимые песни: «Катюшу», «Москву мою», «Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом Степан Степаныч заиграл старинные романсы. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», — радостным хором запели девушки. Это был любимый час Степана Степаныча: когда молодежь, устав носиться по залу, льнула к его гармони. Они могли петь до утра.
Нюша сидела между Таней и Анатолием Иванычем, румянец горел на ее скулах. То она громко хохотала, то глаза ее блестели слезами в свете лампочек…
Ну-ну, не горевать! Он все равно будет мой. Чья любовь приравняется к моей любви? Уеду и приеду, и он будет мой. Эй, вы еще не знаете Нюши! Чего захочет Нюша, того и добьется! «Рано мои косыньки на две расплетать…» Подождешь, мой золотой, красивенький!
Слезы, слезы, слезы,
Лейтесь, слезы, тише…
пели девушки. И Анатолий Иваныч, Толечка, подтягивал застенчивым неверным баритоном:
Чтоб никто не видел,
Чтоб никто не слышал.
Ах, любовь-кручина
Сердце рвет и гложет…
Ничего не кручина, ничего не гложет. Любовь — веселье, радость, любовь — торжество!
А что, если сказать ему?.. Даже стул будто качнулся под Нюшей, когда она это подумала, сердце задрожало и замерло… Очень просто, подойти и сказать: Дмитрий Корнеевич, вы меня, смотрите, дождитесь…
И тут в красный уголок вошел Коростелев. И с ним Марьяна Федоровна, учительница, которую он любил. И Марьяна Федоровна любила Коростелева. Они собирались пожениться… Никто не докладывал Нюше об их любви и их планах, она сама увидела сразу — по тому, как вошли, как взглянули друг на друга, как что-то сказал Марьяне Коростелев, Дмитрий Корнеевич…
И никто на свете
Горю не поможет!
пели девушки, и пела с ними Нюша.
— Товарищи, — сказал Коростелев громко, — прошу всех в столовую, проводим дорогую нашу стахановку банкетом. — И взглянул на Марьяну и сказал что-то тихо — только для нее…
Было, было, было
Счастье недалечко,
Да зашло, как месяц,
Утекло, как речка!
Банкет, тосты, опять гармонь. Молодежь перестает есть-пить, отодвигает стулья, снова устремляется в зал — танцевать. И опять возвращается к столу, и опять тосты, песни, смех…
Коростелев ушел с Марьяной перед рассветом. Проводив Марьяну, пошел домой и стал будить мать:
— Мама! Вы спите, мама?
Она спала не на полатях, а по-летнему, на сеновале. Сеновал был устроен под крышей дома, из сеней вела к нему приставная лестница. Коростелев стоял внизу около лестницы и оттуда окликал тихонько.