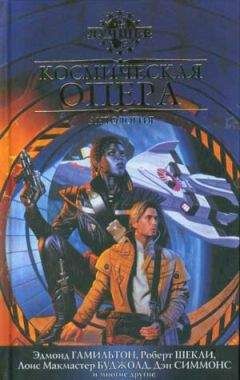— Зачем вы подлому меня учите, мама?
— Правдолюб, душа нагишом, — неодобрительно отозвалась бабушка. — А того не понимает: на весь мир мягко не постелешь.
Она посмотрела на внука и испугалась. Ей показалось: он сейчас заплачет или начнет кричать, или еще что-нибудь сделает дурное, беспамятное. У Павла побелела не только кожа лица, но даже зрачки будто бы стали светлее от ярости.
Он сделал попытку еще раз сдержать себя, торопливо налил из графина воды в стакан, выпил.
— Люблю я ее, мама. И она меня тоже. И жить нам друг без друга не интересно.
— Смирнее теленка был, — неведомо кому пожаловалась бабушка, — и вот — на́ тебе! — стал ершом и ни с места.
Мать уронила голову на грудь:
— Выходит, мне век без внучонка жить. И попестовать некого будет.
— Она через год совсем здоровая станет, — торопливо сказал Павел. — Вы не сомневайтесь, мама.
— Наморишься, намаешься ты с ней, сынок.
Бабушке показалось, что невестка стала помягче, пошла на попятную, и старуха постучала палкой в пол:
— Не лезь в петлю, Пашка, и головы не увязишь. Обдумай путем все. Не часовое дело, — вечное.
— Бати нет, — огорченно вздохнул Павел. — Он бы постоял за меня, не дал вам в обиду.
— Ты и сам-то не больно тихенький, — сказала бабушка и отвернулась.
— Плюешь на нас, старух-то!
Марфа Ефимовна села на кровать рядом с сыном, проговорила, заглядывая ему в глаза:
— Я не со зла, сынок, это. Только и то известно: всякая сосна своему бору шумит. Один ты у меня.
Она опять стала всхлипывать, и что-то говорила, будто глотала кусочки неразжеванных слов.
Обе женщины сидели возле Павла, пригорюнившись, не вытирая слез. Одна ахала, другая подахивала, и Павлу стало жаль их до смерти, таких родных и таких, все же, беспомощных.
— Мама! Бабаня! — внезапно воскликнул он, вскакивая с кровати. — Я же вам подарки славные такие купил. Вот…
И торопливо полез в чемодан, вытащил оттуда женские ботинки, теплые, старомодного вида, потом разноцветные сверточки штапеля, открыл крошечную картонную коробочку, достал из нее продолговатенькие ручные часы.
— Это вам, мама. Нравится?
— Ты бы хоть показал ее мне, — вздохнула мать, не отвечая на вопрос. — Как же благословлять-то, не видя?
— А я и глядеть не буду, — кинула бабушка. — Пусть и не думает.
— Берите… берите… — подвигал он подарки женщинам. — Мы приедем, мама. Выберем время и приедем.
— Чьих вичей она? — спросила мать, стараясь не глядеть на бабушку.
— Вакорина. Анна.
— Казачка?
— Будто бы.
— Только уж разве что казачка… господи, прости меня…
Она искоса взглянула на сына, заметила у него под глазами синие полукружья, увидела жилку на виске, то опадавшую, то вздувавшуюся бугорками от быстрых ударов крови, и всплеснула руками:
— Боже праведный! Заморили, дуры, тебя! Ты же не кушал, небось!
Она торопливо расстелила на столе платок, перенесла с тумбочки яйца, холодное мясо, домашнее сливочное масло с крупными каплями воды поверху, приказала:
— Ешь сейчас же!
— А вы, мама?
— И мы маленько.
Павел схватил чайник, кинул матери на бегу:
— Я мигом. Кипятку из титана принесу. Выбежал в коридор — и чуть не сбил с ног Влахова, Линева и Блажевича. Они молча топтались у двери, и Павел по их лицам понял, что стоят здесь давно, все, верно, слышали — и счастливо улыбнулся товарищам.
— По-ско́ро! — весело пробасил Влахов.
Молодые люди подождали Павла, пропустили его в комнату и, выждав время, толкнули дверь.
— Ого! — громко восхитился Блажевич. — Тут банкет на увесь свет. А я голодный, як волк.
Бабушка неодобрительно посмотрела на молоденького разбитного парня в пышных усишках, сказала сухо:
— Нечего кричать-то. Садись. Гостем будешь.
— Все идите к столу, — торопила Марфа Ефимовна. — Голодные же, наверно.
— Как не! — решительно поддержал Марфу Ефимовну Влахов. — Умира́м от глад!
Ему показалось этого мало и он добавил:
— Волчи глад!
Бабушка усмехнулась:
— Ешьте. Тут всем хватит.
Все с удовольствием принялись за еду.
— Паш, — внезапно сказал Блажевич, похрустывая коркой пирога. — Что я тебе за́раз скажу! Ахнешь!
Павел с интересом посмотрел на товарища:
— Ну, выкладывай, что у тебя такое?
У Блажевича было серьезное, почти торжественное лицо, и всем показалось, что он должен сообщить сейчас, и в самом деле, что-то очень важное и приятное.
— Так что же? — снова поинтересовался Павел.
— Я ды Линев ажани́лися сення!
— Врешь! — ахнул Павел. — И мне ничего не сказали?
— Чего ты так кричишь! — пожал плечами Гришка. — Ты — маленький. Тебе еще рано о том ведать.
— Это почему же? — подозрительно взглянула на Гришку бабушка. — Или он, Павел, в угол рожей, или что?
— Маленький, — доедая пирог, повторил Блажевич. — Несмелый. Девчонок боится.
— Больно много ты знаешь! — вдруг повеселела бабушка. И смущенно умолкла, выдав себя.
Когда с едой было покончено, и все встали из-за стола, Марфа Ефимовна сказала, вздыхая:
— Ну, нам пора. Собирайтесь, мама.
— Куда же, на ночь глядя? — спросил Линев. — Мы вам тут постелем. Хотите — на койках, хотите — на полу.
— Точно та́ка! — безоговорочно заявил Влахов. — Вы — спат тут!
Выговорив не очень точно, но все-таки русские слова, болгарин весь расцвел, хлопнул себя лапищами по бокам и счастливо рассмеялся:
— Перви опити. Кри́во-ля́во.
Марфа Ефимовна колебалась недолго. Она переглянулась с бабушкой и согласно качнула головой:
— Нам на полу способнее. Там и стелите.
— Гэ́та мигом! — пообещал Блажевич.
Он стащил на пол матрацы с двух кроватей, застелил их простынями, покидал вниз подушки и одеяла, и широким жестом пригласил женщин:
— Будьте ласковы! А мы паку́ль в коридоре покурим.
Бабушка безмолвно пожевала губами, кивнула головой:
— Надо уважить, Марфа. Эти двое, что поженились, может, последний раз с Павлом ночуют.
Блажевич важно покачал головой и сообщил, что их все уважают.
— За что же вам такой почет? — поинтересовалась старуха, уже одобрительно посматривая на шутника. — Или славу какую заслужили?
— Именно! — подтвердил Блажевич. — Не сення-завтра звание нам дадут.
— Какое ж это? Казачьих атаманов?
— Выше! Ударников коммунистической пра́цы.
— И что ж? Жалованье прибавят?
— А как же! — утвердительно закивал головой Гришка и добавил, что он уже велел молодой жене сшить громадный мешок для денег.
— Пустобай ты! — добродушно усмехнулась бабушка. — А что весел — это ладно. Больше веселишься — меньше горевать будешь.
Она тихонько зевнула, сконфуженно посмотрела на невестку, мелко перекрестила рот:
— Умаялась я сегодня.
— Вси́чка да изле́зат в коридо́ра! — приказал Влахов.
Все, за исключением женщин, вышли из комнаты.
— Ну, женатые, — сказал Павел, обращаясь к Линеву и Блажевичу. — Наврали?
— А то нет! — расхохотался Блажевич.
— Присочинили для пользы дела, — рассмеялся и Линев. — Однако, не сильно. Мы от тебя не отстанем. По этой части.
Через минуту Линев постучал в дверь.
— Можно? Никто не ответил.
Все вошли в комнату.
— Как се чувству́вате?.. — начал было Влахов, но осекся: женщины лежали молча, отвернувшись к стене.
Павел постелил себе шинель, а Блажевич устроил матрац из двух ватников. Потушили свет.
Абатурин лежал с открытыми глазами, уставший и возбужденный после всех событий дня. Он почти не мог думать сейчас ни о чем, и только звуки доходили до его сознания.
Вот тихо вздыхает бабушка, украдкой творя молитву. Вот в ладошку покашляла мать, боясь выдать свою бессонницу. Заскрипели пружины под крупным телом Влахова.
Всхрапнул и замолк Блажевич.
Шло время, и усталость сморила людей. В комнате стало совсем тихо.
Теперь все звуки за стенами общежития стали явственнее, резче, сильнее. Там, за окнами, могуче дышал завод, и огненные всплески его дыхания сотрясали стекла домов. Изредка с горы долетали раскаты взрывов, тонко вскрикивали маневровые паровозы, шипел сбрасываемый пар.
«Ничего, Паша, — отчетливо сказал Павлу чей-то голос, и Абатурин удивился, увидев перед собой лицо Прокофия Ильича. — Бывает и га́лфинд. В жизни случается всякое. Но все-таки плыви вперед!».
Потом капитан трогал жесткой ладонью волосы Павла, неумело гладя их, говорил негромко:
«И не забудь главное: человек — человеку. Без этого нет человека».
«Я понимаю, Прокофий Ильич, — отвечал Павел. — Я помню это».
Очертания капитана растаяли, и молоденький офицер Николай Павлович тихо пел «Не искушай меня без нужды», и лейтенанту подпевали Гарбуз и Агашин.