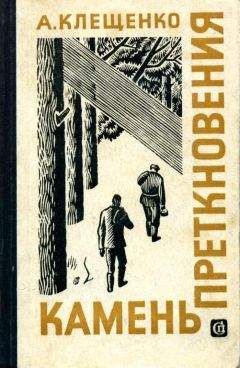— Из каждой такой псины я способен двух сделать. Или четырех! — поиграл бицепсами Воронкин.
— И заплыть по новой… — сказал Стуколкин.
— Точно, — беззлобно усмехнулся Ганько. — По семьдесят четвертой. Ты же натуральный хулиган.
Это была обычная трепотня, обижаться не стоило. Воронкин засунул в проймы застиранной майки большие пальцы и, перебирая остальными, как при игре на пианино, выпятив грудь, заявил с подчеркнутой шутовством гордостью:
— Извините. Майданник, а по-фрайерскому — специалист по освобождению пассажиров от лишнего багажа.
— Был! — Николай Стуколкин швырнул валенок под койку. — Был, Костя! Сейчас ты — натуральный работяга. Лапки в трудовых мозолях.
— Еще буду, Никола! — пообещал тот.
— Трудиться не нравится?
Зажмурясь, сморщившись, словно раскусил что-то очень горькое или кислое, Воронкин отрицательно закрутил головой.
Стуколкин даже не посмотрел в его сторону:
— Валяй. Два раза украдешь, на третьем сгоришь…
— Чего ты меня пугаешь? — закипая, срываясь на обычную в таких случаях показную истерику, шагнул к нему Воронкин. — Хочешь, чтобы я всю дорогу ишачил, как теперь? Да?
Пожав плечами, Стуколкин спросил не его, а Шугина:
— Разве пилить такие же баланы под конвоем в оцеплении не называется ишачить? Наверное, теперь это называется «воровать»?
Шугин не ответил: Воронкин не дал ответить. Заговорил, брызгая слюной, нервничая всерьез:
— Слушай, Витёк, что ему надо, падлюке? Если бы я боялся риска, я не был бы босяком. Был бы фрайером.
— Прижали, гады! — неожиданно изрек Ангуразов. — Не те стали времена. Не кормят даром начальнички…
— Можно еще прокантоваться, Закир!
— Можно, конечно! — бездумно, из солидарности только, согласился тот.
Упираясь пяткой в край табуретки, Стуколкин подтянул к подбородку колено, пухлое в ватной штанине. Как на подушку, положил на него лохматую голову.
— Мне наплевать, — сказал он, успев в паузе глазами пробежать по всем лицам, — что вы думаете делать. Как хотите. Я всю дорогу воровал. Всю дорогу жулик. Кто-нибудь скажет «нет»?
Все выжидающе молчали.
— Я всегда приду к во́рам, и мне не начистят рыло. Я всегда поделюсь с вором последним куском хлеба. Но сам я воровать кончил. Кончил внатуре…
— Твое дело, — поднял и опустил плечи Воронкин.
— Каждый имеет на это право, — как всегда, согласился с ним Ангуразов.
— Может быть, — после паузы продолжил Стуколкин, — кого-нибудь из вас босяки спросят за Цыгана. Почему Цыган завязал? Я могу объяснить… — он опять сделал паузу, а потом, рубя фразы: — Я не стал честным. Просто научился считать, что за каждый месяц на воле тянул два года. Ишачил меньше, чем ишачили там фрайера. Но ишачил…
Он закурил, пальцы его вздрагивали, дважды сломал спичку.
— На воле теперь не разгуляться, братцы! Не то время. Украл — и сиди в хате, втихаря пей водку. Вылез на улицу — берегись выкинуть лишний червонец. Иначе сразу попадешь. Прописал паспорт — участковый спросит: где работаешь? Не прописал — дворник стукнет участковому. Лучше без несчастья заработать грошей на ту же пьянку и не оглядываться… Конечно, украсть можно больше. И легче… — Он усмехнулся, сделал пару затяжек. — Идешь на дело, думаешь: пройдет! Знал бы, что наверняка сгоришь, — не пошел бы! Так, Костя?
— Допустим, что так…
— Хватит. Не хочу сам себе лепить горбатого. Раз пройдет, а на другой или на третий прихватят… Я — вор. Вор! Поняли? С огольцов воровал, чтобы не ишачить. Но за месяц жизни на воле два года пилить лес или котлованы рыть мне не по климату. Это и на свободе можно. Здесь я хоть сам хозяин себе. Захочу — соберу шмотки и айда! Кто меня остановит? Короче говоря, Цыган больше не ворует! Не желает быть фрайером!
— Ишачить никому не хочется… — сказал Воронкин. — Дураков нет.
— Есть, — усмехнулся Стуколкин, пытаясь поймать бегающий взгляд парня. — Ты. Хочешь не ишачить и всю дорогу ишачишь. Как последний рогач.
— Иди ты… — по привычке хотел было выругаться Воронкин, но умолк. Ничто не подмывало ругаться. Лениво, с показной беспечностью, прошел к койке. С маху плюхнулся на нее, задрав ноги на спинку. — Развел баланду, как гражданин воспитатель… — пробурчал он.
Остальные молчали.
Потом заговорил Шугин. О том, что его интересовало. Он обращался к Стуколкину и Ганько, вместе с которыми работал. Но темное чувство единой судьбы, порожденное рассуждениями Стуколкина, объединяло сейчас всех пятерых.
Шугин спросил, как бы примиряясь с необходимостью:
— Так что, братцы? Переходим на комплекс? Да?
Рядом с тревожной, давящей грудь чернотой тупика и бродящим в этой черноте призраком выхода из него вопрос Шугина был таким ерундовым, таким легко разрешаемым. А, не все ли равно? Стоит ли говорить об этом?
— Можно, — буркнул Ганько, торопясь к своим невеселым мыслям.
Но Николай Стуколкин уже перешагнул через сомнения и поиски. Он мог разрешить себе интересоваться мелочами:
— Мало людей — трое.
— Добавят, — сказал Шугин.
Стуколкин поморщился:
— Добавят каких-нибудь чертей — не обрадуешься. Будут придуриваться. За фрайеров спину ломать — тоже на черта мне такие роги́!
— А Костя с Закиром? — движением головы показал Ганько.
Воронкин ответил не сразу, но ответил. За себя и за Ангуразова:
— Ладно, давайте в куче. Без фрайеров.
Нельзя было оттолкнуться от людей, хоть в какой-то степени близких, остаться в одиночестве. А в его несогласии услышали бы именно это. Особенно сейчас, после исповеди Николая Стуколкина. Зачем портить отношения? Один черт, как работать…
Шугин предупредил:
— Вкалывать придется на совесть, Костя!
— Знаем, — все так же глядя в потолок, кивнул Воронкин. — Что же я, по-твоему, с босяками буду работать — и темнить? Что я за псина тогда?
— Да я так, к слову! — успокоил его Виктор.
— Три месяца до весны осталось, кореш! — добавил свое утешение Ангуразов. — Быстро пролетят. Там — все по шпалам с котелком…
— Цыган останется, — мигнул ему Воронкин, показывая на Стуколкина.
— Уеду! — опровергнул тот.
— К теплу поближе, где гроши растут на пальмах?
Николай не ответил. Глядя мимо него, заботливо напомнил Шугину:
— Коня надо подходящего просить. С таким, как вороной мерин, пропадешь…
Так организовалась еще одна бригада малого комплекса. Четвертая на участке.
Виктор отправился к мастеру — договариваться. Тот оказался на конном дворе. «Кстати», — подумал Шугин, вспомнив наказ Стуколкина, и подался промятым в свежем снегу следом.
Мастер и Иван Яковлевич осматривали тылзинскую кобылу Ягодку, напоровшуюся ногой на сук. Третий день лошадь была «на бюллетене».
— Решили работать комплексом, — с ходу доложил Виктор. — В общем, организуем бригаду…
Фома Ионыч особой радости по этому поводу не выразил. Смущало, что бригада будет состоять только из «блатяков». Опять одни, сами по себе. И главное, приходится им доверить коня. Конь — тварь бессловесная, не придет жаловаться. А доброго отношения к беззащитной скотине от головорезов ожидать нечего.
Но Шугин отказался от коновозчика, которого хотел сосватать в бригаду мастер. Сказал твердо: будем работать впятером.
— Штука! — задумался Фома Ионыч. — Боюсь я вам коня выделять. Замордуете вы его.
Шугин начинал злиться; но тут — вовремя — вмешался Иван Тылзин:
— Маленькие они, что ли, Фома Ионыч? Людям на коне работать, зачем же они его уродовать станут?
Тот недовольно метнул в его сторону двух солнечных зайчиков со стекол своих очков. Покрутив головой, словно выискивал место, куда увести Тылзина для объяснений с глазу на глаз, обескураженно махнул рукой:
— Ты пойми, Иван Яковлевич. Конь не машина, коню отношение надо. А они? Разве они по-человечески могут — такие?
Руки Виктора Шугина сами собой метнулись кверху, судорога свела пальцы. Усилием воли заставив, как ему показалось, окаменеть сердце, он сдержался. Процедил через стиснутые зубы:
— Был бы ты помоложе, подлюга… Рук марать неохота. Уйди, гад! Сгинь!..
Между ними встал Тылзин. Зачастил испуганно:
— Витька! Витька! Брось! Брось! — И видя, что Шугин опустил руки: — Вот так, вот и молодец!..
Иван Яковлевич совершенно растерялся: что говорить дальше, как говорить? Мастер оскорбил парня, ударил в больное место — Тылзин угадывал это. Но мастер есть мастер, да еще старик. А Шугин на него с кулаками, с матом. Как можно?
— Разве кулаками правду доказывают? — выигрывая время, подступил он к Шугину. — Ты что?
Тот скрежетнул зубами.
— Ну вот! Психуешь? — обрадовался предлогу Тылзин. — А другие, думаешь, не имеют нервов? В горячке, братец, и не такое скажешь. Он, — Иван Яковлевич через плечо показал на мастера, — еще похлеще мне сейчас выдавал. За Ягодку. И фашист, и шкуродер. По-всякому, а я постарше тебя! Ну и не остыл, а тут ты — тоже насчет коня. Должен же понимать, что старик ведь. Спроста брякнул…