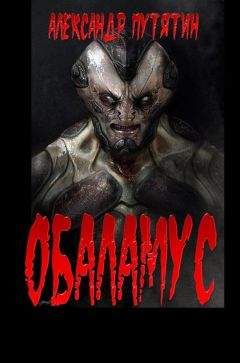Тарасов воспринял этот гул с таким же чувством чуть тревожной надежды и радостного ожидания, с каким воспринимал, бывало, звуки приближавшейся грозы, когда поля иссыхали от жары.
Потом орудийная стрельба затихла.
«Пошли в атаку, — понял Тарасов, — давайте, давайте, только не уступайте! Милые вы мои, только не поддавайтесь!»
Снова раздался грохот взрывов, теперь уже громче, резче, ближе.
«Пошли, хорошо, пошли!» — облегченно выдохнул Тарасов.
Когда и на этот раз смолкли взрывы, различались уже звуки ружейной, автоматной и пулеметной трескотни.
В горячей нетерпеливости ожидания время тянулось медленно, и казалось, нет конца паузам между налетами нашей артиллерии. При третьем налете комбат увидел, как далеко еще, но различимо ясно закурились снегом вершины сопок — наши били туда. Потом на одной из вершин выметнулся от взрыва снег, и тотчас рядом поднялся еще такой же рваный фонтан снарядного взрыва.
— Давай, давай, крой их! — нетерпеливо звал он свои снаряды, и, точно по его просьбе, они пошли молотить по этой вершине непрестанно. Поднятые выше вершин леса земля и снег не успевали упасть, как новые и новые взрывы взметывали и взметывали их, и вся вершина, как в котле, кипела от этой пляски снарядов.
— Вот дают! — воскликнул лежавший рядом с комбатом Миша.
Но ничего не осталось в памяти об этом дне так ярко, как тот момент, когда Тарасов увидел своих. Он все время шарил биноклем по сопкам, ища их, так что глаза уставали от яркости снега. Далеко еще на сопке показались несколько фигур, но он узнал своих. Узнал сразу, узнал безошибочно. Узнал по горбикам вещмешков за спинами, по юрким, не угловатым, как у фашистов от вымуштрованности, движениям, по самому их поведению.
Некоторое время он ничего не различал — застлало слезами глаза… Потом до боли вглядывался в сопку, но там было ничего не видать, точно растворились эти фигурки в снегу, точно их и не было вовсе. Тарасов догадался, что это были артиллерийские разведчики. Он угадал это по стереотрубе, квадратный ящик которой с заплечными ремнями снял один из разведчиков со спины. Теперь там только иногда поблескивали стекла биноклей и стереотрубы.
Фашистам сейчас было самим до себя. Но они не уходили, боясь удара в спину. Они торопливо показывались, то тут, то там, поглядеть, что у нас делается, и прятались снова. Враг нервничал. Фашисты явно боялись атаки с нашей стороны.
— Как тараканы на морозе закопошились! — с усмешкой заметил Миша.
Комбат распорядился, чтобы оставили надежную охрану у раненых и пленного полковника, а остальные были готовы к атаке. Все лежали в снегу, ожидая команды комбата.
Но Тарасов ждал. Ждал такого момента, чтобы бить наверняка.
Грохот пальбы все нарастал. От взрывов метался воздух на сопках и по долинам, и от этих воздушных толчков сильней порошил и метельными косами метался сдуваемый с деревьев снег.
Наконец взрывы лохматыми всплесками показались за гребнем сопки, которую занимали фашисты.
— Дайте же! Дайте сюда! — уже чуть не кричал Тарасов.
И наши дали!
Снаряды грянули прямо по сопке напротив. Вот теперь пришло время! Комбат скомандовал, и бойцы заскользили вниз в долину и, насколько позволяли взрывы, подползали ближе к врагу по склону занятой ими сопки.
Когда же артподготовка закончилась, Тарасов вскочил с пистолетом в руке, устремился вперед.
Худой, маленький, он карабкался вверх, увязая в снегу, падая, вскакивая опять, переметываясь от дерева к дереву, под дзинькавшими, щелкавшими в стволы пулями.
Вдруг будто кто-то стукнул по нему спереди, да так сильно, что он враз остановился, словно налетев на невидимую, но непреодолимо прочную стену.
Удар этот был не по груди, не по голове, не по рукам или ногам, а по всему телу сразу. И, остановившись, он поглядел кругом, не понимая еще, что же это такое, но ничего, кроме белого сугроба перед собой, не увидел. И, все еще во власти горячего чувства атаки, вновь хотел бежать вперед, но от одного только движения земля пошла у него перед глазами куда-то вверх, встала перед ним стеной и опрокинулась на него, закрыла свет в его глазах.
25
Когда очнулся, увидел белизну и подумал, что надо подниматься, а то замерзнешь.
Шевельнулся, но боль сковала движения, и он только простонал:
— Помогите…
Он почувствовал чьи-то руки, но руки эти не поднимали его, а держали за грудь, не давая шевельнуться.
— Все равно не дамся! — крикнул он, рванулся изо всех сил и опять потерял сознание.
Потом до него дошли слова:
— Осторожней надо, осторожней! Он ведь все еще воюет.
— Я не ожидала, доктор.
— Надо ожидать.
Но он воспринял эти слова не явью — ему подумалось: «Что это такое мне мерещится? Вот еще чушь какая!»
Удивительно знакомым, басовито-гудящим голосом кто-то сказал:
— Непошто ее бранить, доктор. Знамо ли было? Я видел, что он здраво глядел. Обрадовался, да, вишь ты, что вышло.
Тарасов открыл глаза. Пожилой, с крупными морщинами на лице, доктор добродушно, но очень внимательно глядел на него, видно, желая понять: как он сейчас?
— Я понимаю, доктор… — проговорил Тарасов удивившим его самого тихим голосом. Рядом что-то стукнуло. Тарасов повернулся на этот громкий, резкий стук и увидел, как огромная фигура в одной нижней рубахе и кальсонах прилаживалась на костылях.
— Куда? — испуганно вскрикнула сестра, но раненый метнулся к двери, отталкиваясь одною ногой (другая была в бинтах) и гремя костылями. Распахнув дверь, он крикнул так, что вроде воздух пошел по палате ветром:
— Очнулся! Очнулся! Комбат очнулся, ребята!
Раздались радостные голоса, топот, хлопанье дверями.
— Не пускать! Никого не пускать! А то они все вверх дном перевернут! — закричал доктор, и сестра, подбежав к двери, закрыла ее.
— Прямо беда с ними, — ворчливо проговорил доктор. — Говоришь, нельзя, а они: мы только глянем. Осматриваешь кого — у самого в чем душа держится, — а все равно: как наш комбат себя чувствует? По коридору идешь, тоже слышишь: как комбат, доктор?
Тарасов лежал, закрыв глаза, и слезы текли по его лицу…
Доктор давно лечил людей и, глядя на этого хрупкого с виду человека, радовался: знал, что такие слезы бывают лучше любого лекарства.
1
Они шли вдвоем — отец и сын. Отец был стар, сын шел на войну, и оба чувствовали, что видятся, может, в последний раз… Шли рядом, тихо. Провожающих стало не видно, и сын не оборачивался больше и не махал им рукой.
Когда дорога повернула от берега реки к лесу, сын остановился. Это было место, где по широкому пойменному покосу вольно раскинулись редкие березы. Здесь они много раз косили сено, встречали зори с девушками, потом невестами и женами. Тиха была река, светло небо, и по выбритому косами лугу уже пробивалась травка, кое-где выкропленная опавшим листом.
Старик, сощемив губы, неотрывно смотрел в осунувшееся лицо сына. И выдержать не смог — губы задрожали, и он видел уже сына как сквозь заплескиваемое дождем стекло… Сын понял, что отцу не осилить последние слова, и жалостливо подумал, как он сдал за последнее время. Собрав всю свою волю, он сказал сначала: «Прощай», — потом проглотил сдавивший горло комок. Старик прильнул к нему, сухими, плохо гнувшимися пальцами ощупал и грудь, и плечи, и спину. Сын отнял от груди голову отца и, трижды поцеловав его в губы, пошел прочь. У старика все плыло перед глазами, он испугался, что не устоит, и, шагнув к притихшей недалеко березе, прислонился к ее широкому стволу. Но и когда стоял, и когда делал эти несколько шагов, и когда прислонялся к березе, все смотрел на уходившего сына. И от этого неотступного отцовского взгляда сын остановился и обернулся. Он долго глядел на сухонькую фигурку прислонившегося к дереву отца. Потом прошел еще немного и снова остановился. И еще раз остановился, когда подошел к лесу. Потом пошел быстро, точно убегая от своей печали, и вот уже скрылся за деревьями, а старик и стоял на том же месте и глядел на дорогу… Совсем ослабнув, приткнулся он на землю к дереву и сидел так долго. Совладав наконец с собой, подумал: «А ведь Александра-то, поди-ка, ждет» — и, царапаясь руками по стволу, точно пьяный, встал. Но в ногах была слабость, слабость была в руках, и, чтобы поосвежиться, он тихонько подошел к реке и, медленно уравновешивая ослабшее тело, спустился по склону берега к воде. Вода стояла как стеклянная, и капли падали звонко, когда он, растирая, умывал лицо. Поглядевшись в воду, он повернулся, чтобы идти назад, но почувствовал, что на берег не взойти — не хватит сил. Посмотрел, нет ли где палки, и, увидев примытый к берегу, обсосанный водой до корявин, вбитый в береговой ил кривой и толстый сучок, вынул его, сполоснул и, опираясь на него, пошел берегом туда, где подъем был положе. Он шел с этим сучком до места, где его наверняка еще было не видно из деревни, потом бросил сучок, пораспрямился и, собрав все силы, пошел, стараясь выглядеть как прежде.