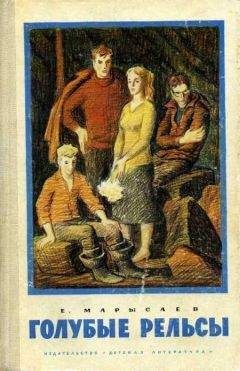Рыжебородый замолчал и стал наливать в кружки.
В электровагончике было жарко от включенных плит, гости постепенно сняли пиджаки, свитера, сорочки. Все они были в татуировках, особенно Решка. От локтя до кисти у него было написано: «Нету в жизни щастя!», а на груди толстенькая русалка.
— Да не тяни, расскажи Балерине, куда мы оглобли направили и зачем к нему зарулили, — нетерпеливо попросил рыжебородого Решка.
— Слушай сюда, — передохнув, продолжал рыжебородый. — Прослышали от знающего человека, что на Чукотке есть один поселок, в поселке же том богатый оленеводческий совхоз помещается. И навроде того, что директор совхоза ищет вольную бригаду плотников аэродромные постройки рубить. Мы, значит, письмецо ему кидаем: есть такая бригада, просим разобъяснить, что за калым и какой куш за него выпадет. Тот отвечает незамедлительно: три бревенчатых постройки, а куш за них такой, что у нас глаза на лоб полезли. Прикинули, что за три месяца столько зашибем, сколько здесь за год не возьмем. Короче — летим калымить… Как ты думаешь, зачем к тебе завернули?
— Зачем же? — вопросом на вопрос ответил Балерина.
— Решили тебя, кореш, в долю взять, — почти торжественно сказал рыжебородый.
Тот молчал.
— От радости в зобу дыханье сперло, — сказал Решка и первым засмеялся своей остроте. — Собирай шмотье, нынче ночью поезд идет.
Балерина молчал.
— Какая у тебя тут зарплата? — спросил его бородач, которого звали Хмырем.
Балерина нехотя ответил. Бородачи заржали. Хмырь сказал:
— Считай, что на Чукотке в пять раз больше возьмешь!
Балерина закурил, зачем-то поднялся.
— Конечно, спасибо вам, кореша, вроде бы заботу проявили… — сказал он. — Деньги лишние не помешают, точно. Бывала вот в этих руках шальная деньга… А толку что? Не о том я, кореша, не о том… Человеком меня здесь считают, поняли? Человеком, а не шпаной. Ни один тюрьмой не попрекнул. Уважают меня здесь, поняли? Без брехни. Уважают. Вот Иван не даст соврать. Между прочим, этот парень и есть тот самый бригадир, который орден заработал. Скажи, Каштан.
— Уважают, Аркаша, — подтвердил бригадир.
Бородачи замолчали, недоверчиво глядя на своего бывшего дружка. Потом рыжебородый удивленно присвистнул и сказал сам себе:
— Если б пару лет назад мне сказали, что наш Балерина такую речугу выдаст, я б тому первый в глаза плюнул!..
Каштан поднялся. Больше ему здесь делать было нечего.
— Говорите, ночью поезд ваш? — спросил он бородачей. — Счастливой дороги, кореша.
Возвращались со смены. Недалеко от поселка была остановка, парни перешли из теплушки на площадку тепловоза. Вскоре за сопкой показался Дивный и засветились длинным пунктиром окна жилых вагончиков. Тепловоз дал сигнал и сбавил скорость. Мощный луч прожектора осветил проспекты Дивного с вагончиками, общежитиями и коттеджами, рабочих, торопливо идущих домой, склоны сопок, вплотную подступивших к железнодорожному полотну.
Возле поста механической централизации играли дети. Они пытались слепить снежную бабу, но у них ничего не получалось, потому что сухой снег рассыпался. Заслушав перестук платформ, дети бросили свое занятие, щурясь, начали смотреть на прожектор. Вдруг один из них забежал на шпалы, показал тепловозу язык и тут же отскочил к своим товарищам.
— Боевой, чертенок! — одобрительно сказал Каштан и пригрозил озорнику кулаком. — Это пацан Семе…
Он не договорил. Другой мальчик, стоявший рядом с озорником, вдруг рванулся с места, тоже забежал на шпалы и высунул язык. Он решил доказать, что ничуть не трусливее товарища.
Почему этот пацаненок не отскочил сразу же в сторону, как его дружок, а продолжал неподвижно стоять с нелепо высунутым языком, широко распахнутыми от ужаса глазами?.. То ли его загипнотизировал свет, как гипнотизирует, например, зайца, то ли напугал панический визг тормозов, то ли ошеломили крики рабочих.
Тепловоз сразу не остановить. Расстояние между тепловозом и мальчиком неумолимо сокращалось.
Секунда, другая, третья, длинные, как часы, как сутки… Он еще мог отпрыгнуть. Но он стоял неподвижно, как истукан. Четвертая, пятая секунды… Когда до него оставалось два-три метра, Каштан прыгнул с высокой площадки на шпалы, падая, швырнул мальца через левый рельс и исчез под тепловозом.
Короткий вскрик.
Эрнест перемахнул через низкую железную ограду, упал и ударился лбом обо что-то твердое, но боли не почувствовал.
Кто-то в собачьих унтах спрыгнул сверху перед его лицом. Эрнест вспомнил, что унты носил молоденький помощник машиниста. Он наклонился и начал что-то вытаскивать из-под колес.
— Ваня! Ва-ня!.. Где ты?.. — позвал Эрнест, ползая перед огромным литым колесом тепловоза.
— Осторожнее! Осторожнее!.. — послышались голоса в конце тепловоза.
Эрнест не поднялся, а почему-то пополз туда на четвереньках. Когда до толпившихся людей осталось совсем немного, дорогу ему преградил небольшой темный ком. Это был сидящий в снегу мальчик. Эрнест лихорадочно ощупал его с головы до ног.
Малыш посмотрел на него и разревелся. Эрнест поднялся с четверенек и направился к толпившейся бригаде. Его бросало из стороны в сторону, как пьяного.
Каштана уже извлекли из-под тепловоза. Он неподвижно лежал на спине. Снег под коленным суставом левой ноги был темным. Ниже колена ноги не было.
Кто-то бежал от жилых вагончиков, слышалось тяжелое, прерывистое дыхание. Это был Гога. Перед ним расступились. Доктор склонился над Каштаном.
— Так. Живой еще. Надо везти в леспромхозовскую больницу. Я здесь бессилен. — Гога всегда обычно не говорил, а кричал, но это было сказано спокойным глуховатым голосом. — Втащим на площадку тепловоза. В кабину не надо. Там тепло. Тепло ему никак нельзя. Я тоже поеду.
Каштана бережно перенесли на площадку тепловоза. Мозг Эрнеста сверлила нелепая мысль: а как же его нога? Она уже не нужна бригадиру?..
— Так. Под голову что-нибудь. Выше, выше, — говорил Гога. — Поехали… Эй, кто-нибудь! Бегите звонить в леспромхоз, пусть встречают!
Эрнест сорвался с места и целиной, сокращая дорогу, побежал в контору, где стоял телефон. Позади лязгнули сцепления. Тепловоз мощно, органно заревел, требуя освободить путь.
Телефон стоял в кабинете начальника управления. Там было совещание. Вздрогнули, зашевелились пласты табачного дыма, когда Эрнест с треском распахнул кабинетную дверь. Ни Гроза, ни Дмитрий, ни их товарищи еще ничего не знали.
Он пробрался к телефону, схватил трубку:
— Алло! Алло!.. Девушка! Леспромхоз, больницу! Срочно!
— Занято, — с поразительным равнодушием ответила, будто зевнула, телефонистка.
— В Дивном несчастье, девушка!
— Прерываю, говорите, — испуганно сказала телефонистка.
— Алло! Больница? Встречайте тепловоз, слышите? Человек под колеса попал…
— Вас понял. Выезжаю на станцию, — ответили на том конце провода.
Эрнест бросил на рычаг трубку и осмотрелся. В кабинете никого не было, лишь ворочались пласты табачного дыма. А может, люди здесь и не находились? Впрочем, какое это имеет значение… Обмякло, заломило все тело, пальцем не пошевелить. На лбу что-то мешало. Эрнест потрогал пальцами лоб и нащупал большую шишку. Пальцы были в крови.
В коридоре раздался быстрый перестук каблуков, и в дверях показалась Люба. Полушубок расстегнут, белый шерстяной платок съехал на плечи. Волосы заиндевели на морозе, казалось, она поседела.
Люба заплакала.
— Любочка, не надо, а? Пойдем на улицу, а?
Она послушно пошла из конторы, глядя прямо перед собою ничего не видящими глазами.
Дмитрий, чертыхаясь, ручкой заводил «газик». Наконец двигатель заурчал.
— Едем в леспромхоз. Садитесь, — коротко сказал парторг Любе и Эрнесту.
Эрнест помог Любе залезть в кабину. Дмитрий врубил скорость.
Вскоре машина въехала в тайгу. Фары рвали темень. От обледенелых стволов деревьев, вплотную подступивших к обочинам, рябило в глазах. Дорогу сильно замело. С тех пор как рельсы прибежали в леспромхоз, по ней ездили редко, и машина юзила. Дмитрий гнал на бешеной скорости, лихорадочно крутил баранку. В одном месте он не успел вывернуть руль. Передок «поцеловался» с толстенным стволом. Левая фара звякнула и погасла.
— Проклятье!.. — выругался Дмитрий, но осматривать повреждение не стал. Развернул машину и помчался дальше.
Люба безучастно смотрела на дорогу…
Впереди запрыгали огоньки леспромхозовского поселка. Казалось, они рядом, за той вон сопкой, но вот машина проезжала сопку, а огоньки светились все на том же расстоянии.
Кто-то всхлипнул. Эрнест посмотрел на Любу. Губы ее были плотно сжаты. Перевел взгляд на Дмитрия. Тот весь был поглощен трудной дорогой. Когда всхлипнули вторично, он понял, что это плачет не Люба и не Дмитрий, а он сам.