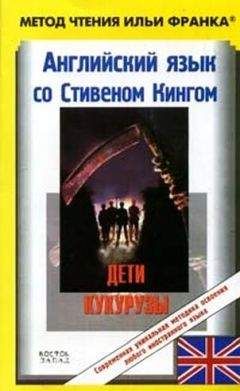— Удручающая картина! — сказал мне Леонтий Назарович. — А все от скопидомства. Камня этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега, потому что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле.
Мы отвели душу, изругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом «после нас — хоть потоп». Потом поговорили о Поленове (Леонтий Назарович был с ним знаком) и вспомним великолепного художника Борисова-Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на косогоре над самой Окой.
Борисов-Мусатов любил этот косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый желтый листок березы прогрет последним солнечным теплом.
В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота земли.
И вот добрый горбун — художник Борисов-Мусатов остановил эту прелестную осень, чем-то светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье.
На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева — на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством.
Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы, и, поглядывая на меня желтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины…
Я рассказывал об этом Леонтию Назаровичу, но не как будто пропустил мимо ушей мои слова и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на Запад.
— Был ли у вас, — спросил меня Леонтий Назарович, — какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности? Очень я люблю такие истории.
Я рассказал ему о голландском рыбачьем поселке Шевенингене. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело к широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани на рыболовных ботах были развернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали пустые бочонки из-под рыбы, и женщины и дети, одетые во все черное, стучали по булыжной набережной деревянными туфлями — сабо.
Быстро темнело. На дамбе зажегся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе невдалеке от поселка вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина, окруженная толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами.
Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты точно из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и черного бархата.
Дети смотрели на цветы как зачарованные. Высокий шофер стоял, прислонившись к капоту машины, и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уайльда. Лакей уронил вазон. Шофер поднял золотой гиацинт с комом земли, отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на ее черном платье.
Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к поселку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети.
Луч маяка пронесся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на ее волосы, и вся эта сцена представилась мне главой из еще не написанной сказки о бледно-золотом цветке, осветившем своим таинственным огнем рыбачью лачугу.
Лакей в упор посмотрел на шофера. Шофер усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись.
А в ресторане за матовой стеклянной стеной пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной.
— Да, — сказал Леонтий Назарович, выслушав этот рассказ, — у нас в жизни человеческой многое еще не обдумано.
— Что, например? — спросил я.
— Да я все об этих цветах, — ответил задумчиво Леонтий Назарович. — Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша — жестянка, надо давно позабыть. Цветы и все прочее, отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее.
Катер подошел к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Леонтием Назаровичем сошли по узким сходням.
— Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. Она казалась не деревом, а мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжистым собором, облицованным серой корой.
— Прошлой осенью.
— Что же это вы! — сказал с упреком Леонтий Назарович. — Знаменитых своих земляков забываете. А за компанию на катере — спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке.
Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани.
Еще издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри все было прибрано, и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины.
Через два дня я встретил Леонтия Назаровича на бульваре у реки, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огородов тянуло навозом, дымком, и непрерывно горланили петухи — радовались теплой весне.
И я рассказал Леонтию Назаровичу еще одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца.
— Я так понимаю, — сказал мне Леонтий Назарович, — что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове. В поступке этого бедняка итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова. Большую человечность, — повторил он и вздохнул. — На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь.
Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова.
Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отраженным в реке одного из облаков, проплывающих над нами в весеннем небе.
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
Рассказ о народной медицине
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.
Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.
Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.
Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу «Ну Тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!».
Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.