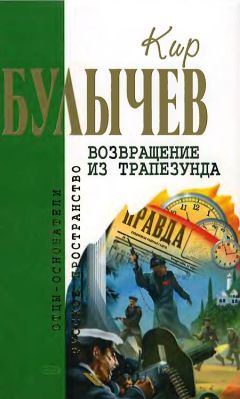Это — не одиночество, это только свидание с самим собою, радостное и милое, — ну, просто куда-то сбежал от себя самого, долго скитался и вот вернулся.
И что бы ни говорили слишком краснощекие, а хорошо это: закрыть ставни наглухо днем, занавесить окна черным, зажечь свечу, скромную, как ребячий глазок, — сидеть перед нею, прижавши руки к вискам, и думать.
Может быть, то, что промелькнет в это время или на чем остановишься с любовью, никому и не нужно, — но ведь это было бы неслыханным чудом, если бы до скрытых тайников в твою душу проникла чужая душа! Именно то, что никому другому не нужно, нужнее всего тебе.
И у кого тиха и глубока своя келья, и у кого длинна и ярка свеча, и у кого есть над чем задуматься надолго, — просто, самозабвенно, без слез и без гнева, — хорошо тому, потому что с ним весь мир…
— Алексей Иваныч! — с усилием сказала Наталья Львовна. — Что вы сделали!..
— Простите! — привычно для себя сказал Алексей Иваныч.
— Но его уже нет на вокзале, вы знаете? Где же он? Где же Илья? Где?
У Натальи Львовны вновь навернулись крупные слезы.
— Это вы насчет раненого? — осведомился вахмистр. — Значит, карета скорой помощи пришла. Железнодорожная больница есть у нас тоже, но уж лучше в настоящую, в земскую.
— Лучше? — отозвался Алексей Иваныч.
— Разумеется… Там приспособления все, а у нас что? — чики-брики.
Рыжий жандарм, подойдя к вахмистру, стал что-то говорить ему шепотом, и скоро вахмистр важно обратился к Макухину:
— Ваша фамилия?.. И что вы можете показать по этому делу?..
И пока Макухин, сперва запинаясь и останавливаясь часто, потом более уверенно и плавно начал рассказывать, откуда прибыл он сюда с невестой в автомобиле (за покупками ввиду близкой свадьбы) и почему приехал именно на вокзал, а не остановился в городе, в гостинице (было дело по отправке камня) — и потом дальше об Алексее Иваныче, которого он и раньше считал несколько ненормальным (так и сказал веско и убежденно: «считал несколько ненормальным»), — пока говорил он все это, а вахмистр записывал, — Наталья Львовна все смотрела на Алексея Иваныча жутким своим упорным взглядом, который знал за нею Алексей Иваныч и раньше.
Этого взгляда и раньше как-то боялся Алексей Иваныч, а теперь он намеренно отводил глаза, блуждая ими по широкой склоненной спине вахмистра, по желтым табуретам и вытертому, давно не крашенному полу… Но когда он, также потупясь, взглянул на муфту Натальи Львовны, сверху — какого-то темного меха, а изнутри подбитую белым ангорским кроликом, он вспомнил вдруг пеструю кошку, опрометью бросившуюся куда-то, — бржж, с задранным кверху хвостом, и почему-то тут же розовую лампадку, вдребезги разбитую пулей…
И впервые дошло до сознания, что стреляла в кого-то Наталья Львовна, в какого-то артиста, который («каприз таланта») любил вчитываться в роль при розовой лампадке и был, должно быть, товарищем Натальи Львовны по труппе…
И еще не успела улечься в голове эта мысль, как почему-то вспомнилось, что Илья недавно был (он сам это сказал) за границей и теперь, как и раньше, брился, как актер…
И вдруг, как пораженный, вполголоса, но с широко открытыми глазами, спросил он Наталью Львовну:
— Это о нем, о нем вы мне тогда… вчера? Лампадка розовая, и кошка… это он?
— Он! — чуть шевельнула губами Наталья Львовна.
Алексей Иваныч прошептал было:
— Как же так? Когда же?.. — но потом, сделав рукою свой обратно хватающий жест, сказал: — Простите! — и ничего не добавил больше.
Когда Макухин сказал, наконец, что больше по настоящему делу он ничего показать не может, вахмистр (а рыжий жандарм ушел еще раньше дежурить на вокзале) подозвал к своему столу Наталью Львовну, и та подошла и села на табурет.
На вопросы вахмистра она отвечала, осторожно выбирая слова, — что знает и того, кто ранен (когда-то вместе играли на сцене), и того, кто ранил (случайные соседи по дачам), но почему именно стрелял один в другого и умышленно это было или нет, — не знает.
Алексей Иваныч слушал и думал даже, что вахмистр неправильно делает допрос и знает это, так же, как Наталья Львовна знала, почему он стрелял в Илью, и скрыла это, — что над его личным, таким огненным, палящим и режущим, уже начинает клубиться холодное, чужое, как сырой туман: чужому до чужого какое дело?.. Он отметил и то, как встала Наталья Львовна и подала руку Макухину, и тот, сумрачно до того стоявший, почему-то стал ее забывчиво гладить своей широкой ладонью и прояснел.
Вот что показал вахмистру Алексей Иваныч:
— Человек человеку — жизнь… однако часто бывает, что человек человеку — смерть… Не так ли? И даже бывает иногда, что больше смерть, несравненно, бесспорно больше смерть, чем жизнь!.. Жизнь — это нечаянно большей частью, — не так ли? — а смерть!.. смерть — это прямой расчет… и даже, когда в расчет не входит, — безразлично. Верно, верно!.. И вот мне была смерть!.. Раз Вале — смерть и Мите — смерть, — значит, и мне смерть… Разве нас можно отделить? Нельзя!.. Нет!.. Были хорошие такие вечера, сидели вместе, пили чай и… надеялись… И что же вышло?
— Присядьте, пожалуйста, — сказал вдруг жандарм, подвигая ему ногой табурет, с которого только что встала Наталья Львовна. — Валя, — это кто же такой был? И Митя?
— Валя — это моя жена, а не «такой»!.. Валя — это Валентина Михайловна, моя жена… А Митя — это мой сын.
Алексей Иваныч, не подбирая бурки, опустился на табурет забывчиво и грузно и бессвязно продолжал спеша:
— И вот, их уже нет, — они умерли!.. И такого закона у вас нет, господа, — у тех, кто с законом под мышкой, — закона нет такого, чтобы его судить за убийство… не за яв-но-е, нет, конечно, но однако, — чем же оно лучше явного? А-а! Явного вам хочется?! Вам, чтобы из револьвера на вашем вокзале, непременно у вас на глазах — трах! — и чтобы народ тут кругом… и дьячок… и татарин, чтоб чай и пиво… ага! A вы чтобы могли протокол?!. Нет!.. Нет, я не поддамся! Это вы только уж после можете, когда я сам себя осужу, а я… я еще не знаю, как она!.. Поэтому я себя не осудил еще… Когда она осудит, тогда и вы можете, а раньше нет…
Вахмистр посмотрел на Макухина: тот энергично показал пальцем на свой крутой лоб и безнадежно махнул рукой в сторону Алексея Иваныча, но вахмистр подозрительно посмотрел на него и на Алексея Иваныча и спросил вдруг:
— Разрешение на оружие у вас имеется?
— Нет, — с усилием оторвавшись от своего, ответил Алексей Иваныч. — А разве нужно?
— А как же? — удивился вахмистр. — Непременно нужно… Поэтому, значит, вы его с заранее обдуманным намерением?
— Илью?.. теперь нет… Я его здесь не думал даже и встретить. Нет… Совсем случайно вышло.
— Вы, конечно, куда-нибудь ехать хотели?
— А?.. Да… Ехать?.. Бесспорно… Бесспорно, я куда-то хотел… Да: на Волынь, сынка его хотел посмотреть… от моей жены.
— А-а! — догадливо протянул старик. — Та-ак-с!
У него была очень сановитая внешность, у этого старого жандармского вахмистра с золотой огромной медалью на шее, и лицо его, широкое и простонародное, но по-городскому бледнокожее и с холеной белой раздвоенной бородою, было бы под стать иному архиерею или губернатору, а серые, с желтыми белками, глаза смотрели умно и спокойно.
Алексей Иваныч теперь прикидывал в уме, когда же именно Илья был знаком с Натальей Львовной: до Вали это было или после? И он уже обернулся было к ней, чтобы спросить, но, встретившись с ее жутким взглядом, отвернулся поспешно и забормотал:
— Вне всякого сомнения, в нем есть что-то, что нравится женщинам… Но почему же благодаря этому вдруг смерть?.. А ежели смерть, то это уже все — конец! И всем законам конец, и никакой протокол не нужен — конец!
— Протокол все-таки написать надо, — заметил вахмистр. — Значит, так нужно полагать: он, этот раненный вами, с вашей женою был знаком?
— И в результате жена умерла… И Митя умер, мой мальчик, — подхватил Алексей Иваныч.
— Та-ак-с! — протянул понимающе старик и крупным, круглым почерком написал: «Покушение на убийство из ревности».
Минут через десять после того рыжий жандарм отправлял всех троих в извозчичьем фаэтоне в ближайшую полицейскую часть.
Предночное прозрачно-синее надвинулось и стояло около фаэтона, когда они ехали, и лица всех потеряли свой день и слабо озарились изнутри. Даже жандарм в серой шинели, сидевший рядом с Алексеем Иванычем, — и у него профиль оказался мягким, топко прочерченным.
Но что болью какою-то острой впивалось в обмякшее сердце Алексея Иваныча — это блуждающий по сторонам медленный взгляд Макухина. И когда он понял, что только благодаря ему Макухин узнал про Илью и что теперь, как и в нем самом, прочно в нем поселился Илья и давил, он, забывши, что был на «ты» с Макухиным, приподнял фуражку и сказал ему робким ученическим голосом: