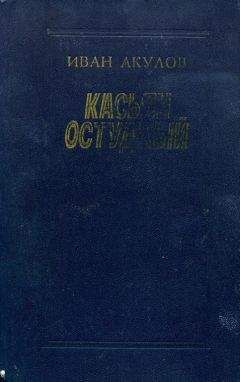— Но ведь со вступлением в колхоз пока не горит. Или уж вот теперь же надо?
— Не горит. Нет, не горит. Есть время подумать. Но до землеустройства. Да ведь если решишься, так что же медлить-то. Право слово, трудно с вами вести разговор. То да по тому.
Харитон сидел на стуле, уронив плечи и стиснув коленями руки, сложенные ладонь к ладони. Уловив раздражение в голосе Семена Григорьевича, поднял на него свои покорные глаза:
— Да ведь я что ж, Семен Григорьевич. Если ваш такой совет, вам виднее. Я, пожалуй, и запишусь. Хоть завтра.
— Я не тороплю, Харитон, Не тороплю и не настаиваю. Хочу только, чтоб ты видел свою жизнь чуть подальше устоинской поскотины.
— Я понимаю, Семен Григорьевич. Понимаю, не будет нам прежнего житья. Мы с Дуней хоть кому работники. Колхоз, так пиши колхоз. Отца только и жалею. Один он у нас. Сердиться станет. Да, видно, другого выхода нету.
— Иди, Харитон. Спокойной ночи тебе. Вижу, понял меня, а в остальном уж как велит совесть.
В остаток ночи Кадушкины не сомкнули глаз, томительно думая о грядущем, непонятном и потому чуждом. Не спал и гость, а задремал, забылся только перед рассветом. И даже во сне чувствовал свое больное сердце.
К Зимнему Николе обложенные твердым налогом устоинцы почти рассчитались с государством по хлебу. В урожайном году большинство дворов поставки выполнили без особых затруднений, и часть хлеба пошла на рынок. По окрестным селам и деревням свободно разъезжал скупщик Жарков, потому что заслоны и посты на дорогах были сняты, да мужики не особенно боялись их, так как имели на руках квитанции «Союзхлеба».
Милиционер Ягодин, ждавший кулацких выходок и борьбы с контрой, нашел в Устойном тихую и безмятежную жизнь. Поселился он у Валентины Строковой, секретарши Совета, которая жила в доме стариков родителей с маленькой дочерью. Милиционеру Ягодину была отдана крохотная горенка, прирубленная к дому со стороны огорода. Единственное окошко выходило на крутояр к пойме Туры и было так заботливо оклеено, что никогда не замерзало. Милиционер Ягодин часами сидел возле окна, читал учебник политической грамоты и передовые статьи окружной газеты, готовясь будущей осенью поступить на юридические курсы. Его особенно приковывало окошко в предвечернюю пору, когда иссякал над снегами понизовья куцый зимний день и мягкая сумеречная просинь подступала все ближе и ближе к селу. Сперва меркли приречные кусты, и без того с робкими очертаниями от изморози, затем тонула дорога к взвозу, и уж нельзя было разобрать: сани ли поднялись от реки, или тень легла от сугроба и налилась затаенным мраком. Ближе к крутояру, на белой равнине луга, были все время ясно видны стога сена, обнесенные жидкими пряслами, и вдруг замутились, отошли, огорожа вокруг них растаяла, и поближе и подальше от них все стало синеть, как и сами сумерки, и, наконец, спряталось все в потемневших снегах. По тропинке возле огорода прошла баба с коромыслом и пустыми раскачивающимися ведрами. За изреженным тыном мелькала ее шубейка из черненой овчины. У спуска, где дорога утекает под изволок, вскинул свою длинную шею колодезный журавль. Баба с ведрами потянула его за веревку, и он медленно, как дремотный, стал клониться к земле, все выше и выше задирая по-волчьи прямой хвост с привязанными к нему поленом и тяжелым колесом. Когда баба наполнила ведра и, подняв их на коромысле, вернулась на тропу, шубейка ее почти слилась с потемневшим тыном. Но Ягодин надежно видел, как она тихо, укачкой плыла по ту сторону огорода, и вдруг потерял ее, хотя знал, что она не успела еще скрыться за углом дома. Потом он вроде еще сумел перехватить ее совсем уже неверную фигуру, но эта почему-то показалась ему легче и очень быстрой. Ягодин на мгновенье смежил притомившиеся глаза, а, открыв их, ничего не увидел на улице. Окно густо затекло темнотой и окончательно ослепло.
В доме хлопнули двери. Кто-то прошел по избе торопливым шагом и постучал в горенку. Через порог шагнула Валентина в своем узком и легком пальто. Села на кровать милиционера.
— Фууу, разов пять в чарым занесло: задами бежала. А тут, скажи на милость, едва на ржановскую Настю не наскочила. Ползет, толстомясая, с коромыслом. От чего бежишь, на то и вынесет. А вы все сидите да книжечки почитываете. Житуха. В селе все кипит, а он знай почитывает.
— Скажи-ка ты, — усмехнулся Ягодин и зашуршал коробком спичек.
— Не зажигайте, не зажигайте. Никакой тревоги, наказал председатель Яков Назарыч. Втихую надо накрыть.
— Заговорщиков, что ли?
— А то кого еще. Собирайтесь живо, и я проведу вас задами. Мы в избе у Егора Бедулева. Актив. Ну жизнь, дьявол ее задави.
— А толком не объясните, что случилось? Может, и ходить незачем. Разве нельзя погодить до утра?
— Мы жаловаться будем на вас — вот что, товарищ Ягодин. Да, да. Вы плохо держите смычку. А спекулянты распоясались.
— Да ведь вы шли по избе, небось видели, у печки мои выстиранные портянки сохнут. И носки тоже. Босый я теперь. Как пойду-то, Валентина Силовна?
— Тятины онучи принесу. Ну только. Да одевайтесь же, — Валентина встала, выговаривая: — Кругом не спокойно, а мы портянки сушим.
— Дак если постираны, надо же высушить, — все еще с усмешкой говорил Ягодин, собираясь обуваться.
— Сразу видно, товарищ Ягодин, не служили вы в армии. А я люблю боевых да скорых, чтоб так и стриг на одной ноге.
— Завидная любовь у вас, Валентина Силовна.
— С чего-то на любовь занесло. Неделовой вы мужчина, товарищ Ягодин. Чегой-то о любви вдруг.
— Да ведь вы же, Валентина Силовна, сами сказали, что любите боевых да скорых.
— Боевых да скорых, конечно, не таких, как вы. Я ведь про любовь-то высказала не в том смысле, как любятся, — и поторопила: — Медленно-то как вы.
— Тихий воз на горе, говорят. Да вот и готов.
— Наган-то хоть взяли?
— Неуж стрелять придется?
— Да смех-то какой вам, товарищ Ягодин. Вы еще не знаете наших.
— Пойдемте, Валентина Силовна. Я за вашу безопасность ручаюсь.
Они через маленькую кухонку вышли в избу. За столом у коптилочки хлебал душистый гороховый кисель Сила Строков, с изломанной на сторону, заспанной бородой. Увидев дочь, треснул ложкой по ребру блюда:
— Валька, до каких пор станешь вожгаться с мужичьем? Робетенок не умыт, не прибран. В кого издалась — все на сторону да на сторону? А дома всего вдосталь.
— Вот еще, — не поглядев на отца, сказала Валентина и толкнула дверь из избы. Вышел и Ягодин. В сенках старуха Строкова шебаршила веником:
— Что он опять?
— Известно, одно у него.
— А ты иди. Иди с богом. Я с ним всю жизнь света не видела, так он еще и на тебя хомут накидывает. Иди-ко, иди.
Старуха проводила дочь и Ягодина до самых ворот, все приговаривая:
— Иди-ко знай. Потом в энто оконце у крылечка стукни.
Милиционер Ягодин задержался у крыльца, и Валентина в дом вошла одна.
— Я тебя зачем посылал? — сердито спросил Яков Умнов.
— Да идет, идет.
— Скорей из Ирбита можно получить помощь, чем вызвать нашего милиционера товарища Ягодина.
В избе не было огня. Но топилась печка и через открытую дверцу бросала на пол живых светлячков. Кто-то курил подмоченный табак, и пахло горелым навозом. Было душно и жарко. На лавке, во всю стену, сидели. Ягодин нашел местечко и опустился рядом с мужиком, хрипло сопевшим носом.
— Начнем, товарищи. Товарищ милиционер Ягодин, повторяю для вас: отдел заготовок и сам Борис Юрьевич Мошкин распорядились арестовать перекупщика зерна Жаркова. Он в сию минуту играет в подкидного в избе у Ванюшки Волка с Машкой и Титушком. Кулак Ржанов, Михаил Корнилыч, хоть он числится в депутатах у нас на сегодня, запродал Жаркову двести пудов и ночью на семи санях повезет в город. Из окрика постановлено запроданный хлеб силами Совета брать и четвертую часть пускать на нужды бедноте, а остальное как заданье в «Союзхлеб» на ссыпку. И далее…
— Так-то Мишка, который, и пустил к себе на двор.
— Бедулев, не встревай, — оборвал Умнов и легкой ладонью хлопнул по столу. — Ну вот так значит. Хм. Вот так оно выходит, — повторил сбитый с мысли председатель. — Теперь дальше. А дальше братаны Окладниковы. Они тоже с Жарковым снюхались. А брать тот хлеб можно только в дороге. С возов, сказано.
— Мишка небось не один повезет. И с ружьями, — предостерег мужик от дверей, что не переставал лузгать семечки.
— А вот Ванюшка объяснит нам. Ванюшка? Где он?
— Вот спит. Эй, ты, затяг.
— Дай ему леща.
Сопевший рядом с Ягодиным и был Ванюшка Волк. Ему съездили по шее — он зашевелился и растряс острый запах перегара.
— Кто балуется?
— Ты, Ванюшка, спать, что ли, явился?
— Да кто спит? Кто спит? Вишь, размахался. Дам наотмашку.