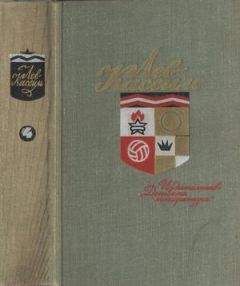Мы с трудом пробрались на нашем автобусе к стадиону. По дороге нас не раз надолго затирали густые колонны автомашин. Отливая цветным лаком, сверкая выпуклым плексигласом и хромированными частями, неслись к стадиону машины всех марок – на крыше у каждой было укреплено по нескольку пар лыж. И машины напоминали мне этим наши знаменитые миномёты «катюши».
Катили переполненные автобусы, красные, жёлтые и ярко-зелёные. Сверху, на крышах, и сзади, на багажных решётках, сидели люди в спортивных куртках и, конечно, с лыжами в руках.
– Австрия едет! – объяснил мне один из наших спутников, тоже лыжник.
В толстых чулках, с зелёными пёрышками на шляпах скользили с гор прибывшие специально на сегодняшнее состязание тирольцы. Мчались на «джипах» румяные плечистые парни в полупальто из белого пухлого драпа с красными гусарскими шнурами и бранденбурами на деревянных пуговицах-бирюльках, в алых шапках из искусственного нейлонового меха.
– Америка двинулась, – поспешил сообщить мне мой осведомлённый сосед.
Размахивая полосатыми жезлами и клетчатыми флажками, с трудом регулируя клокочущий поток машин, пропуская через шоссе целые колонны лыжников, распоряжались на дорогах взмокшие, охрипшие альпинеро – альпийские стрелки… К началу гонки трибуны Снежного стадиона были плотно заняты зрителями. Нас провели на Центральную трибуну, очевидно предназначенную для почётных гостей. Слева и справа от нас протянулись скамьи с самыми дорогими местами. Здесь была совсем особая публика, обитатели фешенебельного отеля «Маримонте-Мажестик», румяные, вислощекие джентльмены, жевавшие длинные сигары, седоватые сухопарые дамы с клетчатыми пледами на коленях, в тёмных, цвета желчи очках и длинноногие, коротко стриженные девушки, очень похожие на тех, что были изображены на дорожных щитах, прославляющих нейлоновые чулки. Они беспрерывно щёлками фотоаппаратами и жужжали маленькими кинокамерами. Дамы постарше в ожидании начала гонок подставляли солнцу, едва лишь оно проглядывало сквозь облака, свои жёлтые щеки и занимались вязаньем. Тонкие спицы посверкивали в их пальцах, но вязали дамы что-то до такой степени лёгкое, эфемерное и почти невидимое, что я невольно вспомнил о работе портных из знаменитой сказки Андерсена про голого короля.
Мужчины были заняты представительством: они церемонно раскланивались, причём делали это в самой разнообразной манере. Вот один толстяк, подвижной и общительный, пропуская даму, коротко при каждом поклоне приподнимал шляпу по нескольку раз, поблистав на солнце лысиной, будто просемафорив свой привет. Другой, тощий, очень высокий и такой тонконогий, словно он стоял на штативе, медленно отводил шляпу в сторону, держал её в некотором отдалении, как бы считая при этом про себя, и быстро затем надевал её на склонённую плешь, как делает фотограф-пушкарь, приоткрывая «с выдержкой» объектив старомодного аппарата. Третий, обнажив голову, кивал ею несколько раз, склонив набок, и затем вдевал её с виска в шляпу, которую держал полями перпендикулярно к плечу…
Ниже, под центральными местами, и сзади над нами на верхних трибунах шумели, спорили, перекликались болельщики: Уже знакомая триада «Гунгред… Микулинен… Скуратов…» слышалась оттуда.
Флаги тридцати двух наций, участвовавших в Белой Олимпиаде, развевались над Снежным стадионом.
В ложах прессы наперебой стрекотали пишущие машинки, чуточку в стороне слышалось приглушённое бормотание радиокомментаторов, склонившихся над маленькими микрофонами. Комментаторы держали микрофон возле рта щепотью, и издали казалось, что они, что-то урча себе под нос, посасывают мороженое «эскимо»…
И тут я наконец увидел Карычева. Он тоже заметил меня, вскочил за барьером журналистской ложи, перегнулся через него, радостно помахал рукой, а потом показал на своё горло.
– О-о, наконец-то! – сипло крикнул он мне. – А я уж тебе звонил в Доббиако. Надо же нам с тобой потолковать, в конце концов… Понимаешь…
Он совсем захрипел, мотая головой, прокашливаясь.
Я хотел что-то сказать ему, но он заторопился:
– Прости, после поговорим… Слышишь, какой у меня бас профундо? Сорвал, понимаешь, глотку: очень уж вчера болел за наших, когда они американцам в хоккей насажали.
Перескочив через барьер ложи, он быстро спустился туда, где под сенью тридцати двух флагов, бившихся в морозном ветре, уже делали последнюю разминку, пробовали на снегу лыжи выходившие на старт лыжницы.
Я видел, как Карычев подбежал к стройной плечистой девушке, у которой был номер «38». Заглянув в программку, я мог убедиться, что именно под этим номером и идёт «Наталья Скуратова (СССР)».
Я попытался разглядеть её через бинокль. Миловидное чистое лицо её с упрямым, несколько припухшим ртом и ребячливо выпяченными губами дышало здоровьем и каким-то собранным, не показным и даже немного сердитым спокойствием. Огромные, словно настежь распахнутые серые глаза под длинными загибающимися вверх ресницами, на которых оседали пушинки снега, были внимательны и излучали строгий, ровный свет. Не чувствовалось, по крайней мере издали, что она волнуется… Только кончики длинных бровей, слегка приподнятые у виска, нет-нет да подрагивали.
К ней подошёл высокий, спортивной выправки человек в голубом полупальто с белыми буквами «СССР» на груди и пыжиковой шапке. Это была форма спортивной команды СССР. Он едва заметно прихрамывал, но двигался уверенно и чётко. Подойдя к Скуратовой, он что-то сказал ей, положив руку на плечо с той властной и целомудренной простотой, которая так характерна для отношений, обычно устанавливающихся у нас между прославленными спортсменками и их требовательными воспитателями-тренерами. Скуратова быстро обернулась к нему всем зардевшимся и как будто ещё более похорошевшим лицом и словно обдала его блеском разом подобревших серых глаз. И я хорошо видел через свой сильный бинокль, как она незаметно, украдкой потёрлась упрямым подбородком о его руку, лежавшую у неё на плече.
Я давно уже узнал в подошедшем Степана Чудинова, портреты которого встречал в спортивных журналах. Что-то сказав подошедшему Карычеву, покивав ему, Чудинов, быстро присев на корточки, осмотрел крепление на Наташиных лыжах, заставил её проверить скольжение и отошёл в сторону.
И началась гонка.
Старт давали раздельный, не парами, как тогда, на спартакиаде в Зимогорске, а для каждой лыжницы особо, с интервалами в полминуты. Взлетал над головой толстого голландца-судьи клетчатый, в шахматных квадратах флаг, и очередная гонщица уносилась по трассе мимо трибун. И по мановению судейского флажка стадион каждый раз взрывался рёвом, гулом, топотом. Нестройные хоровые приветствия ещё долго сопровождали лыжницу, умчавшуюся вдаль. Это норвежцы, австрийцы, итальянцы, финны подбадривали своих лыжниц, бравших старт.
И вот в тридцать восьмой раз взлетел шахматный флажок, и гонку начала вышедшая на дистанцию Наталья Скуратова.
Её появления давно ждали на трибунах. Тысячи голосов приветствовали знаменитую советскую гонщицу. Она шла, сосредоточенно набирая скорость, своим широким и сильным шагом. Я не специалист по лыжам, и сам бы Карычев смог написать об этом гораздо лучше, но и мне было видно, как послушно скользят эти узкие лыжи, как все быстрее и увереннее движется мимо трибун ладная фигура лыжницы. Она не убыстряла ритма своих движений, а тем не менее скорость нарастала заметно для глаз. Она как бы раскатывала себя. Это был классический двухшажный попеременный ход, которому научил её Чудинов. Во весь размах шага скользили послушные ей лыжи. На всю длину руки отводимые назад палки давали мощный поступательный толчок.
– Какой ход! Какой ход! – шептали знатоки.
– Вперёд! Вперёд, Наташа!.. Давай, Скуратова!.. Пошла… Пошла! Даёшь!.. – доносилось с трибун, где голубели спортивные пальто и виднелись пыжиковые шапки нашей команды. – На-та-ша!.. На!.. Та!.. Ша!.. – скандировали болельщики.
А гонщица, то исчезая в низинах, то взлетая на крутизну белых холмов, уносилась всё дальше и дальше от стадиона. Вскоре она потерялась в мутноватом пространстве, которое закрыла завеса медленно опускавшегося снега, редкого, но крупного.
Вообще погода доставила и на этот раз немало волнений участникам гонки и зрителям.
Вчера было очень морозно. И, как мне рассказал впоследствии Карычев, Наташа, посоветовавшись с Чудиновым, остановилась на одной из мазей, изготовленных дома отцом. Наташа упрямо верила в чудодейственные возможности этих охотничьих фамильных составов. Но к утру погода резко изменилась. Тяжёлый войлок низких туч, разматываясь, сползал с альпийских склонов. Потеплело. Воздух стал влажным, замутился. Поверхность снега оттаивала, слёживалась. Лыжи со вчерашней мазью проскальзывали, отдавали назад, лишались упора. Пришлось перед самой гонкой перемазывать. А тут ещё пошёл липкий снег. Все это очень затрудняло гонку и вселяло тревогу в сердца болельщиков.