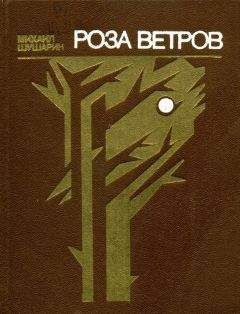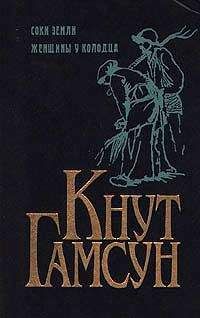— Да ты погоди.
— Что тебе?
— На-ко, гостинец Дарье отнеси!
— Какой-такой гостинец?
— А вот! — Увар задирал сивую бороду, хохотал, протягивая Николаю Ивановичу свиное ухо.
— Дурной, Уварко! — плевался Николай. — Не соображаешь, змей, что нынче казах другой стал. И свинину тоже может ашать[16].
— Да ну?
— Приходи завтра, старый, ко мне, я тебя кобылятиной угощу.
— А ты, поди, думаешь, струшу. С превеликим удовольствием махан[17] ем, не грозись!
Все весело смеялись. Смеялся, забывшись, Егор. Но, увидев Галку, будто сиротинка сидевшую на крылечке, смолк. Галка, этакая боевуха, и вдруг в сторонке. Захолонуло у Егора сердце. Это я, черт старый, довел девку!»
Когда закончили работу, притянув начинающие застывать туши крепкими вожжами к верхней матке навеса, пошли в дом. Егор остановился возле Галки, попросил:
— Не простудись, доча. Иди в избу!
Увидел в глазах ее отчаянный вызов. Она поднялась и сказала:
— На праздник, папа, нужно пригласить Степана Крутоярова. Не придет — его дело. Но вы его прогневили, вам и кориться надо. Не за вами правда, папа!
Егор проглотил большой клубок слюны.
— Знаю без тебя.
…Шел тихий, веселый снег.
Красные флаги и снег, и красные транспаранты обновили школу, клуб, правление колхоза, рябиновские улочки и переулки. Казалось, что рябиновая согра брызнула на село несказанной краской и запахом. Полыхало все красным огнем, пело серебряным звоном.
Феша умела готовить столы к праздникам, обильные и вкусные. И в том, как это делалось, сказывался характер сибирский, вольный. Толстые щи — перво-наперво, потом рыжики в сметане, боровички с луковой подливкой, огурцы и помидоры соленые и маринованные, ястрычная с белой пленочкой икра, шаньги и пироги, и утки жареные, и гусятина, и пельмени, и блины, и запеканка из гречневой каши с груздями, и квас медовый с изюмом, да сухарный с рябиной и на мяте. Чего там только не было!
После торжественного заседания, состоявшегося в клубе, гости собрались в горнице у Кудиновых.
Дед Увар, присаживаясь к столу, цокал языком:
— И откуда ты, Фешка, всего этого набрала, едрена копоть! Тут за неделю не съешь!
— Будто у вас на стол нечего ставить?
— Мы со старухой живем по ватерпасу: нет ни хлеба и ни квасу, душу шибко не морим — ничего мы не варим!
— Пошел собирать, Уварушко! — махнула рукой Еремеевна. — О, господи!
— Присаживайтесь, гостеньки дорогие. С праздником вас! С Октябрьской! — Феша держала поднос, на котором красовался зеленый витой графин с горлышком в виде головы богатыря.
— Эта посудина на мысли наводит! — сказал помалкивающий доселе Афоня, и Зойка ткнула его под локоть: «Знаю твои мысли».
— Давайте по круговой, по братинушке!
Егор принял из рук Феши графин-богатырь и начал обносить всех рябиновой настойкой на спирту. Когда подошел к Степану, поклонился:
— Спасибо, что пришел, Степа, не поморговал.
И этим будто заборонил все неровности, лежавшие между ними, и Степану стало легко.
Пили немного. Пропустив рюмку, Увар Васильевич благодушничал:
— Как Иисус Христос на колеснице проехал. Ей-бо! Оно, к делу сказать, колесниц нынче не признают. Телег и тех в колхозе, руководимом племянником, не хватает… Моя старуха на самолете в область летать наторела. Какие уж тут телеги? Самолет, известное дело, скорость… Первый раз она в самолет залезла и рябину из ведра рассыпала. Пока собирала ягоды, ей говорят: «Приехали, Еремеевна, вылазь!» Она в ругань: «Хватит, говорит, смеяться-то, молодые ишо!» А потом окозохалась[18], глянула в кругляшок-то — город!
— Будет тебе! — останавливала его Еремеевна. — Кто же тебя не слыхал. Вся Рябиновка знает, всем доклад сделал!
Но Увар Васильевич разогнался и остановиться ему было уже трудно.
— А за штакетником, около аэровокзала, сноха Ангелина стоит… Ждет свекровку… Не так уж ей свекровку надо, как два ведра рябины, давление лечить. А что оно такое, давление, и отчего происходит? Оттого, что кушать помногу стали. Вот оно и давит. Во все, значит, отверстия напор идет. Во время войны, когда всухомятку жили, ни у кого не давило, и болезни такой вовсе не было. А сейчас… давление! И лекарства разные придумывают: кто рябину горстями ест, кто облепиху. А один из нашего райисполкому, ястрить его, пчелами вздумал лечиться. Слыхал, Павел? — Увар Васильевич потеребил племянника за рукав.
— Нет, не слыхал!
— Приехал к Ермолаю на пасеку и говорит: «Выпускай пчел». А тот в ответ: «Чо их выпускать, они не взаперте и не привязаны». Возроптал начальник: «Заперты не заперты, а сделай, — говорит, — так, чтобы они меня покусали: давление у меня!» Ермолай да Оглуздин, известно, какие личности, все время хворые — есть охота и выпить сильно тянет. Об давлении этом они никогда не слыхивали. Зевнул, значит, Ермолай во всю пасть и опять отвечает райисполкомовскому: «В пьяном виде вы, гражданин начальник, как бы они вас совсем не кончили. Оплывет ваша личность — мамаша родная не признает!» — «Зачем же лицо? Надо, чтобы в ягодицы жалили», — просит товарищ. В общем, сделали так: закрыли у избушки все окна и щели, только одно нижнее стеклышко в раме вынули, так, чтобы ягодицы можно было поместить… Расшуровал Ермолай злодеек, ну и давай они гостя потчевать. Терпел он долго, не вытерпел, отскочил от окошка, за штаны хвать, а пчелы ему на чело. Он за чело схватился, а штаны — на пол! Визготня, шум! Потом, говорят, дён десять ни сидеть, ни лежать, ни стоять не мог. Едва отводились в райбольнице!
Покатывалось со смеху застолье, лился из репродуктора заливистый мотив. Феша, скинув батистовый платок, гордо подняла голову, взяла у Егора графин, налила рюмку, выпила и надела ее на палец:
— Сел воробушек на гвоздь, как хозяин, так и гость! Давайте еще по рюмочке, гостеньки мои милые!
— Ох, ястрить те, ловко! Придется, видно, — быстро согласился Увар Васильевич.
Потом пели песни, слаженно, на два голоса:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали!
И весь хор, будто подкрадываясь, выходил навстречу запевальщику:
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали!
Песня вздымалась ввысь, могучая и величественная.
Пробовали играть плясовую: «Растотуриха высока на ногах, накопила много сала на боках!», но не получилось, и Увар Васильевич сокрушался:
— Гармошки не хватает, Егор! Как ты, едрена копоть, сплоховал?!
— Давайте я за Виталькой схожу! — предложила Зойка. — У него баян.
— Айда бегом! — согласился Афоня. — Тут рядом.
Зойка, накинув пуховую шаль, хлопнула дверью. Вскоре на дворе яростно залаял Джек. Степан глянул в густые сумерки и вздрогнул: от калитки к сеням в кожаной, оставшейся от отца, куртке, подбитой белым мехом, с баяном в руке шел Виталька. Рядом с ним в заячьей эскимоске с длинными ушами шагала Катя Сергеева. Впустив в избу белый вихор, они предстали перед всеми, веселые, раскрасневшиеся от мороза и быстрой ходьбы.
И дальше все шло как в тумане. Феша Кудинова плясала легко. Будто пава ходила вокруг нее полная достоинства Зойка, и Еремеевна по-девичьи звонко припевала частушку, взглядывая на Увара Васильевича:
Я, бывало, боком-боком,
Я, бывало, стороной:
Бывало, в кожаной тужурочке
Ухаживал за мной!
Но Степан ничего этого не видел и не слышал. О чем-то толковал ему Егор, что-то рассказывал отец, дружески улыбалась Людмила Долинская, вызывала плясать Феша; и он сам улыбался, смотрел всем в глаза, поддакивал, не понимая, с кем и о чем говорит, не слушая собеседников, не испытывая малейшего желания что-то узнать или сказать… Все, кто был вокруг: и дед, и бабушка, и Феша, и Егор, и Афоня, и Катя Сергеева, и Виталька, и отец с Людмилой Долинской — все стали казаться Степану бесполезными, ненужными людьми с маленькими и смешными радостями, не настоящими, а засохшими, как цветы бессмертника. И ему стало невыносимо скучно от того, что он здесь, с ними.
В городе рядом с общежитием педагогического института жил инвалид Отечественной войны. Студенты приглашали его в красный уголок и слушали рассказы о подвигах. Так было и раз, и два, и три. Потом инвалид, пьяный, взлохмаченный, стал приходить без приглашения. Он заголял грязную штанину и давал щупать уродливо сросшуюся ногу и глубокие рваные раны.
— Я воевал, — хрипел инвалид, — кровь за Родину пролил!
И с каждым разом эти слова для младшего Крутоярова казались все менее значительными, а потом стали безразличными. Все знали, что инвалид героически сражался под Сталинградом и имеет награды, но всем стало казаться, что он лжет. И никто не хотел видеть его пьяного и нечесаного.