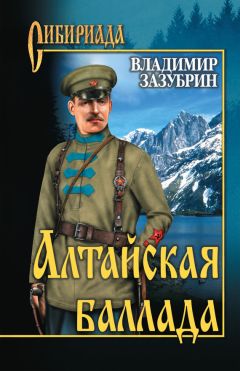Для Нее и ради Нее.
Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:
— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.
Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.
— Раздевайся, гад.
— Дайте холуя.
Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.
— Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.
Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:
— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.
Отхаркался — и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:
— Не нервничать.
И властно и раздраженно:
— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.
Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горло. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.
Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к стенке. Соломин взял ее под руку:
— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничё не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.
Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.
Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:
— Если бы вы зн-знали, товарищи… жить, жить как хочется…
И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на нее. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.
Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре… Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана — черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.
Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы— топоры. Трупы не падают — березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их — они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.
Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.
А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке — земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.
Трр-ах-ррр-ух-ррр.
Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосягаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается в даль. В голове только одна мысль — о Ней.
Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.
На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.
И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, — в черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.
Подвал вздыхает или кашляет:
— Тащи-т-и-и.
И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокротой или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, в хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дрожи кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные, загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:
— Чека… Из Чека… Чека свой товар вывозит…
И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов — Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке — в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.
— Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой — ладный бы плод дали.
Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:
— Зачем тебе их, Ефим?
Тот светло улыбнулся.
— Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.
Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик.
Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.
— Поп-то расписался… А генерал-то…
Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.
— Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют…
Это Наум Непомнящих. Боже и согласен, и нет…
Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.
Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово — допинг.
До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку — чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки — крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью — тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло — красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти — допинг.