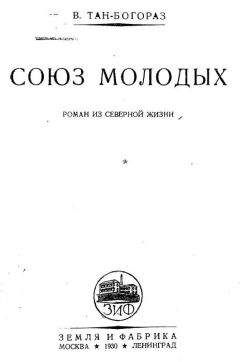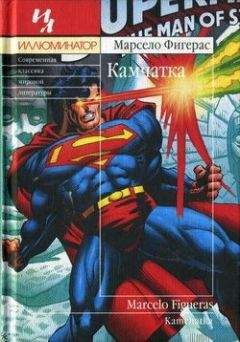— Хоть крошку какую дайте, не оставляйте нас так!
— Я вам дам, что смогу! — пообещал Авилов.
На утро объявили по городу нежданную, неслыханную радость. Каждому жителю, до малого младенца, начальник дает по восьмушке кирпича и четыре куска сахару. Старухи попросили табаку. Авилов выдал полпуда и велел растеребить и раздать по листу. Это было повторение подвигов Митьки Реброва в начале революции. Колымская политика, как видно, допускала один только путь. Купцы ожидали совсем не того. И на утро, после раздачи, на квартиру к Макарьеву явилась партия торгующих людей и, правда, не с улицы в окошко, но все-таки скопом, и в формах вечевых стали просить:
— Отец, челяди дал, теперь и нам дай!
— Берите, — согласился Авилов и отравил их к князу Алыму.
Горбоносый черкес-армянин был интендантом отряда, стал интендантом Колымского княжества. Купцы вначале возымели довольно безумную мысль: забрать у Авилова драгоценные товары просто так, за здорово живешь. Но князь Алым только пальцем помотал перед носом у рыжего Ковынина.
— Нэ так.
— Ну, в долг, — предложили купцы с такой же готовностью.
— Зачэм долг, — сказал интендант, — мэняй чего-нибудь.
— А что у нас есть, — наивно сказали купцы, — нету ничего!
— Какой ничего, шкура есть! Давай своя шкура за чай и табак!
Делю шло, разумеется, не о собственной купеческой шкуре, а о шкурах звериных, о блестящей, расцвеченной, драгоценной колымской пушнине.
Так черкес Алымбаев практически установил на Колыме монополию внуторга.
Ольские мещане представляли в отряде Авилова частный капитал. Были они с птичьими именами, одинаково громкими, хотя и разными. Один был Соколов, другой Коршунов, а третий Ястребов. Это было единственное наследство, уцелевшее у этих торгашей от предков, свирепых казаков, завоевавших край.
Эти торговые птицы организовали лавочку и стали покупать у колымчан ту же самую пушнину и за тот же чаек, табачок, но, разумеется, платили дороже казенной цены.
Алымбаев молчал до поры, но когда у частников набралось достаточно пушнины он пригласил к себе старшую птицу, Соколова, и предложил выкупить у них всю пушнину.
— А почем? — спросил Соколов.
— А почем вы покупали, по том и заплатим.
Соколов даже поперхнулся от изумления и гнева.
— А на… на… нам что останется?
— А вы начинайте сначала, — насмешливо сказал интендант.
На утро молодой Новгородов пошел объясняться с Авиловым. Он старался держаться развязно, но руки у него тряслись.
— Зачем обижаешь народ? Вместе голодали!
— А тебе какое, дело? — резко спросил Авилов.
— Когда дорогу искали в горах, тогда было мое дело! — запальчиво крикнул якут.
Авилов молчал.
— Весь барыш себе забираете! — кричал Новгородов. — А может, я пайщик! За что боролись?
Эта знаменитая фраза впоследствии получила большое применение в политике. Но Авилову она не понравилась.
Он хлопнул в ладоши. Вошел ординарец чуваш.
— Кликнуть ко мне коменданта!
Комендантом был назначен, как обычно, розовый Дулебов.
Дулебов вошел с вежливой улыбкой на спокойном лице.
— Приказ по гарнизону, — сказал Авилов. — Якутов Новгородовых, обоих, в двадцать четыре часа выслать из пределов вверенного мне края.
Новгородов действительно уехал на следующий день и отправился на запад по знакомому якутскому тракту. Птичьи мещане уехали с ним без всякого приказа. Пушнину Алымбаев реквизировал в казну и ничего не заплатил. Но остатки их собственных товаров великодушно отдал изгнанникам.
Так произошло на Колыме расхождение двух капиталов и классов: феодального с торговым.
Новгородов и птичьи мещане попали на Абый, в другое государство, тоже завоеванное белыми. Верховным владетелем этого государства был капитан Матвей Деревянов, иначе Матюша Деревяный. Но приключения этих купцов в деревянном государстве я расскажу как-нибудь в другое раз.
Колымские жители выпили розданный чай, выкурили табак, но все же остались без еды. Стали обдирать шкурную обивку с дверей, шерсть сбивали, а кожу разваривали в кипятке, наподобие супа. Съели постельные кожи, варили даже дымленую замшу, несмотря на горький вкус и кожи и дыма.
На второй неделе случилось событие. Городской нищий Егорша Юкагир повесился на воротах штаб-квартиры Авилова.
Милостыни ему давно не подавали. Но Егорша питался кусками испорченного мяса из казенного склада, от каких даже собаки воротили брезгливо носы. В казенном амбаре мясо постоянно загнивало, и Егорша не оставался без пищи. Он дошел до того, что ел эту падаль сырьем, а если она загнивала до червей, он выбирал червей просто пальцами и складывал в рот.
Наравне с Егоршей казенным мясом питались горностаи и крысы. Горностаи раздобрели на почве реквизиций и так размножились, что Луковцев понемногу наладил промысел этого ценного зверька. Но теперь в амбаре нечему было испортиться. Было чисто и пусто, как выметено. Горностаи отступили в леса, а Егорша Юкагир отступил на тот свет.
Повесившись на воротах макарьевского дома, он тем самым набросил колдующий «урос» (проклятие) не то на купца, не то на начальника.
После этого печального события Авилов, со свойственной ему прямолинейностью, решил очистить город от всех ненужных дармоедных элементов. Чуваши другой раз пошли по домам и согнали в казарму бесприютных старух, беспризорных ребятишек, мальчишек и девчонок, каких-то вдов с детишками. Хотели даже прихватить Липку Щербатых вместе с ее дочками. Но она подняла страшный крик.
— К Викентию пойду, одну ухвоил (извел), теперь за другую принялся!
Историю Авилова знали теперь и чуваши и то, как Липка кричала вместо «Авилова» — «Викентий», повлияло на них.
Но другую девчонку, Анюшку, дочку Митрофана Куропашки, которая съехала в Середний после смерти отца и сбилась к знакомой семье весельчан, как приблудная собачонка, чуваши захватили у Липки и Липка за нее не вступилась. Ей нечем было кормить свою собственную кровь.
С этим человеческим уловом церемониться не стали. Алымбаев с Дулебовым разбили их на кучки и на утро разослали по наслегам, так, вслепую, без всякого соображения, и дней через пять, через шесть в якутских поселках оказалось по кучке этих городских изгнанников, голодных и никчемных.
Наслежные старосты не знали, что с ними делать. В довоенное время, случалось, присылали вот также уголовных поселенцев-русаков, но такой поселенец был мужчина, опытный и сильный и по-своему страшный. Наслеги отчасти кормили его, а отчасти он грабил. Иногда ему давали сироту, безродную старуху, негодную для подлинных хозяев, — в рабыни и в жены, и она промышляла для него все ту же питающую рыбку. Таких беспризорных сирот наслеги вообще раздавали в полурабство богатым хозяевам, мальчишек до возмужалости, девчонок до замужества. Их якуты называли х у м у л а н, общественный вскормленник.
Но тут было другое. Тут были сироты и старухи из города, русские рабыни на потребу якутов.
Их разобрали по рукам, богачи взяли что получше, а бедным достался оборыш. Мальчишки попали в батраки, девчонки в наложницы. На западной тундре несколько девчонок продали «в чукчи». Чукчи вообще питают любопытство к женщинам чуждых племен, в особенности к русским. Так появились на тундре у чукоч русские рабыни, как было двести лет назад, во время чукотской войны.
Анюшку Куропашкину купил Аттыкай со стойбища Аттувии, двоюродный брат Переодетого Руквата. И он снял с нее последние ситцевые тряпки, одел ее в пышную одежду из лоснящегося пыжика, примазал ее к своему очагу, т. е. зарезал оленя и свежею кровью начертил на ее лбу и щеках наследственные знаки своего собственного рода, потом отдал ее женам-шаманкам, чтобы они изгнали из нее русскую тоску и вложили ей новую чукотскую оленелюбивую душу.
После всех этих обрядов он повез ее с большим торжеством на стойбище дяди Тнеськана.
— Помиримся, Рукват, — сказал он двоюродному брату, — теперь я не хуже тебя. Ты переоделся по-русски, а я эту русачку переодел по-нашему.
Впрочем, это другая история, которую я расскажу когда-нибудь после.
В городе сыто не стало. Голодных и нищих как будто не убавилось. В сущности, все горожане, кроме маленькой кучки торговцев, были такие же голодные, как изгнанные хумуланы. Чиновники жили не лучше других. Олесов Никола продал Тарасу Карпатому заветный серебряный крестик за полтора пуда муки. Когда Тарас в воскресенье с обедни пришел с этим новокупленным знаком и важно выпятил свой странный зеленый мундир пограничного ведомства, насупились самые злые казаки, супротивники Митьки Реброва. А старухи запричитали, как будто по покойнику. Пришельцы отбирали от туземцев казенные отличия, покупкой или силой. Горожане словно понизились в чине, совместно с Николою.