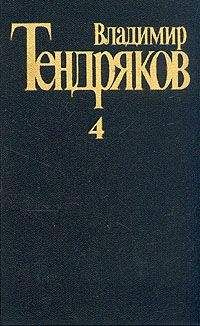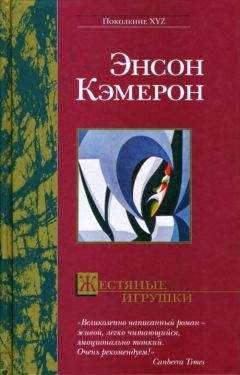«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься». — Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери, — его подташнивало от спертого воздуха.
Но в это время Чистых вырос в дверях:
— Пожалуйста, Иван Иваныч. Машина тут.
— Слава богу, наконец-то.
Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича.
— Что?..
Иван Иванович с усилием повернулся назад.
Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.
— Что — уже?
Сестра важно кивнула:
— Минут десять назад… Пока тут…
Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых, и самых любопытных. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.
Улица села мирно светилась окнами, за каждым сейчас по-семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.
Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильней, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:
— Помогите.
Чистых и Шаблов бросились к нему, толкая друг друга от усердия, неловко тиская, засунули на сиденье.
Он поерзал, пристроился поудобнее, обернулся… Чистых и Леха Шаблов стояли рядком на дороге — один тонкий, жидкотело сутулящийся, второй — обширно плотный, тоже сутулящийся, но от собственной тяжести. Сейчас, в сумерках с мрачноватой просинью несвежих сугробов, эти два разных человека были по-братски схожи. Оба только что потеряли заступника, оба переживают сиротство.
Ивану Ивановичу близка их беда. Он ли жил по-лыковски, или Лыков по нему, но жить иначе уже не сумеет.
Два человека в сумерках, две тени — широкая и узкая, каждого из них завтра ждет людская неприязнь, опасная пустота, когда не знаешь, что делать, как поступать, к чему приспособить себя. И все-таки эти оба — счастливцы по сравнению с ним. Они молоды, они переживут, перетерпят, приспособятся. Он же стар, ломать наново жизнь не в силах.
— Трогай, — со вздохом сказал Иван Иванович шоферу, совсем молодому парнишке. — Только полегоньку, а то развалюсь по кускам.
Двое — тонкий и широкий, — сутуловато нависшие над дорогой, остались позади. Счастливцы…
И как это при сидячей жизни, заплыв жиром, он, Иван Слегов, перетянул своего кореша, здоровяка Пийко Лыкова, удивлявшего всех своей кипучестью и неутомимостью?
Но если оглянуться назад, то можно, пожалуй, угадать — носил в себе Пийко Лыков червячка. Был всесилен и отказывал Пашке Жорову в новой крыше — не могу, не неволь. Хотелось быть добрым и красивым, а позвал на помощь — кого? — вовсе не красивого Валерку Приблудного: «Повесь на себя, что мне не к лицу». Хочется и неможется, распирающая сила и сковывающее бессилие в одной груди — тайный червячок, разъедающий, оказывается, не только душу, но и неизносимое тело. Никто долго не замечал его, даже он, Иван Слегов, лучше других знавший Пийко Лыкова — глыба мужик, не треснет, не завалится.
До последних дней Пийко, как и в молодости, мотался по разросшемуся колхозу, вставал в пять, ложился затемно, был крут на расправу, ежели видел непорядок. Но все чаще и чаще Иван Слегов чувствовал в нем усталость.
— Эх, Иван, — заговаривал Евлампий, — вот мы с тобой седые да плешивые, к черте подходим. Жизнь протопали вместе, ты, чую, всю жизнь завидуешь мне…
— Нет, не завидую.
— Врешь, все завидуют — стар и млад, В силе Лыков, в славе Лыков, чего не хватает? И сам даже не придумаю — чего?..
— Блажен, кто верует.
— То-то и оно, что не блажен. Нет, Иван, вот подхожу к черте, а покоя в душе нету. Точит душу, чего-то не хватает, кажись минутой — вот-вот ухвачу, пойму. Вот-вот! И малого не добираю.
Он иногда вспоминал то, мимо чего раньше прошел отвернувшись.
— А помнишь, Иван, ты мне когда-то говорил, что коровы у нас живут под шиферными крышами, а люди под дырявыми?
— Помню.
— Дырявых-то крыш теперь у нас, похоже, нет, но этим хвалиться, сам знаю, нечего — многие еще не красно живут. А что, ежели нам замахнуться — все село, понимаешь, заново! Чтоб с нужниками в кафеле?.. Лет бы за десять осилили? А?..
А на следующий день он забывал об этом, толковал, разогревая себя, о другом:
— Клуб у нас, как у всех. Вот то-то и плохо. Дворец культуры нужен — кресла плюшевые, картины в золотых рамах, люстры с висюльками, чтоб из города самых модных артистов — да, милости просим почаще. Да своя самодеятельность… Чтоб всего района село Пожары — центр культуры! А?
Метался Евлампий Лыков, пытался уловить — чего не хватает? Однажды специально вызвал к себе:
— Знаешь, Иван, я решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу. Сейчас он явится…
Для чего он пригласил на этот разговор в свидетели Ивана Ивановича? Может быть, потому, что бухгалтер в свое время видел, как Сергей отвесил пощечину, теперь же Евлампий хотел показать — гляди, мол, зла не помню.
А старому Лыкову уже выгодней не помнить зла племяннику.
Сергей как был, так и остался — не бригадир и не рядовой колхозник, на птичьей должности. И по-прежнему в опале, сослан в Петраковскую, даже выехать не смей без спросу Евлампия Никитича — беспаспортный.
Сергея с женой видели то в одном конце пожарских земель, то в другом — копаются, что-то собирают, над чем-то колдуют.
Говорят, кочевники в пустыне считают святыми тех, кто ищет воду. Вода для них — жизнь. Для пожарца жизнь — это хлеб. И тот, кто по доброй воле изо дня в день упрямо ищет особые хлеба, — свят не свят, а доброго слова стоит. Прошло то время, когда завидовали: «Ишь нашел работку непыльную, за нее и платят, и почитают, даже учрежденьице специально выстроили». Теперь и не платят, и не почитают, — завидовать нечему. Против самого Евлампия Никитича прет мужик, на свой страх и риск действует, сил и времени не жалеет, — видать, дело стоящее.
Как-то под вечер Ксюша и Сергей, набродившись по полям, уселись у дороги. Ксюша стянула платок, раскинула на траве, Сергей высыпал из мешков собранные колоски. Склонившись голова к голове, они перебирали улов, раскладывали по кучкам, тихо беседовали:
— Дождей в налив маловато было, мелковато зерно…
Носились ласточки над землей. Где-то за полями, в оврагах вызванивали боталами коровы, тянущиеся поближе к дому. И трусил по дороге одинокий всадник. Мир кругом и усталый покой.
Неожиданно проголосили тормоза, с железной, оскорбляющей полевую тишину, истерикой. Ксюша и Сергей обернулись: вялая пыль медленно опадала на дорогу, на тусклую придорожную травку. Из председательского «газика» глядело сонно-распаренное, широкое лицо Лехи — кепчонка на глазах, взгляд из-под козырька жесткий. У Ксюши повисли руки, Сергей отвернулся с каменным лицом.
Оседала пыль, трусил не спеша всадник, смотрел молча Леха из кабинки.
— Ну, — наконец выдавил он, — крохоборничаете?
— Давай, Сережа, складываться, — глухо сказала Ксюша.
Сергей дернул скулой:
— Пусть пялится, не обращай внимания.
— Крысы полевые — по колоску таскаете. А ну, несите сюда все!
— Пошли, Сережа.
Сергей не отвечал, продолжал шевелить колосья.
— Хуже будет, коли вылезу!
На гнедой, лоснящейся от жары и сытости лошади подтрусил бригадир Черепнов — лицо опаленное, глаза запавшие, — приподнял картузик:
— Здравствуйте.
— Оне у тебя по полям шарят, а ты им здоровы отвешиваешь. Хорош бригадир.
— А тебе что? — Черепнов дернул поводья, подал на машину коня.
— А ничего. Забери давай, что собрали оне, я в правление свезу. Пусть полюбуются.
— С-час. С поклончиком прикажешь тебе подать, али как?
— Не кобенься, Андрюха. Как бы Евлампий Никитич хвост не накрутил. Лучше делай, что говорю.
— Приказываешь?
— Советую.
— Ну так я обожду твоих советов слушаться. Ты покуда не Евлампий Никитич, а всего-то баранка от его машины. Крути, баранка, себе дальше да пеньки огибай, а то налетишь — по частям собирать придется.
И Черепнов коленом въезжал в кабину.
— Ну, Андрюха, гляди!.. Слово не воробей… Зачешешься у меня! — голос из глубины кабинки, из-под колена.
— Не пугай! Не все-то тебя боятся.
Рассерженный рев мотора, рывок вперед, пыль…
Черепнов хмуровато проводил взглядом, развернул лошадь, еще раз приподнял картузик:
— Бывайте здоровы, — прежним уважительным баском.
Иван Иванович Слегов наблюдал конец этой истории. Как обычно в свой «бухгалтерский час» явился к Лыкову, но, оказывается, в этот святой час залезло другое дело. В кабинете стоял обиженно надутый и почтительный Леха, сидел перед Лыковым Черепнов, тоже обиженный, но сердито.