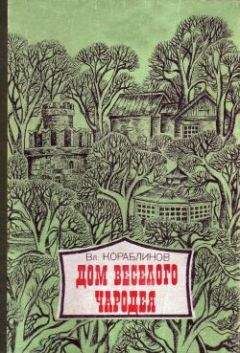К Шурке идешь, конечно, к надежному человеку. «Погуляем?» — «Можно», — Шурка всегда готова. Час можно рядом молчать, два, сколько хочется. Луна над Адмиралтейством, как золотой колобок на остром носу. Дворцовый мост уже тих. Вода под мостом тяжела, и течения будто нет. Как зеркало, отражает город. «К рахитам?»— «Можно…» Миновали Ростральные и свернули влево. Там, на спуске к Малой Неве, тоже сфинксы. Не эти, которые знаменитые, а свои — их с Шуркой — «рахиты». Щербатые, головастые, лукавые морды в непонятной улыбке тяжело сложены между лап, кончик хвоста отбит, кусок носа. Тихо, будто не город. Вода пахнет близко и остро. Шурка сидит на сфинксе, и тихое, в лунных скулах, лицо ее обращено к Федору с привычным, необходимым ему пониманием. «Опять поругались?» — «А-а, ладно!» — «И не лень вам ругаться…»
Нельзя, чтоб она сейчас вот так убежала… Господи, ну зачем? Федор уже на лестнице.
И эта последняя ссора с Людкой, глупее глупого. Сидели ночью в кухне у Брянчиков, одни, как всегда, хорошо. Со смены прямо туда пришел. Людка, простенькая, в халатике, уже мыла посуду. Тонкие руки ее хрупко мелькали над раковиной, волосы падали на лицо, она, смеясь, поправляла их локтем. Федор глядел на узкую спину, обтянутую халатиком, на это ее движение — локтем откинуть волосы, на узенькие лопатки, остро ходившие под халатиком. Нежность его затопляла. «Люд, давай моим хоть скажем. Что я, как кот-то, бегаю…» — «А ты не бегай», — вдруг сказала легко. Как смахнула эту нежность его, даже и не заметила. Федор замолк. Встал через сколько-то, вышел в прихожую. Вернулся в куртке уже. «Ты домой?» — даже не удивилась. «Домой..» Не остановила.
Через ночь, конечно, не выдержал. Позвонил в час ночи условленным звоном. Тихо. Еще позвонил. Еще. Во дворе задрал голову — свету, как не было, так и нет. Утром на «Лиговке» встретились. «Ты что, спала?» — «Ой, почему — спала?» — «А чего ж не открыла?» — «Так поздно же! — Глазищи чистые, ясные. — Тебе ж все равно домой надо!» Три недели не приходил. А вчера, после разговора с отцом, прямо поехал к Людке. Забарабанил в дверь кулаком, из соседней квартиры высунулись. Открыла: «Ты? Наконец-то! — Как и не было ничего. Повисла, прижалась. — Федька, не могу ж без тебя! — Заглянула в глаза: — Ой, чего?» — «Поговорили… с отцом..» — «Про нас?» — «Без нас хватило». — «Ой, Федька, а я тебе как раз хотела сказать…»
Шура быстро шла по бетонной дорожке к проходной из депо. Федор догнал, забежал вперед, стал перед нею, загородив дорожку.
— Шурка, послушай!
— Ну?
Сам еще не знал, что сказать.
— Всё же не так!
— Всё так…
— Ты ничего не говорила, я ничего не слышал.
— Это, конечно, удобней. Нет, я сказала — ты слышал..
Все не глядела ему в лицо. Шагнула — обойти Федора. Он схватил ее за руки. Не знал еще, что сказать. Нет, уже знал.
— Шурка, первой тебе говорю, ты же друг. Слышишь — тебе первой! У нас с Людкой ребенок будет. Я сам ничего не знал. Сегодня ночью только узнал. Это ж Людка! Мне даже не говорила.
— Хорошо, хоть узнал…
— Ага, — Федор глупо кивнул, — хорошо.
— Друг, конечно…
Только теперь подняла на него глаза. Было в них понимание, необходимое Федору, которое он привык видеть в Шурке. Радость уже была, он уже видел. Но была еще боль, которую Федор тоже видел теперь, — может, была и раньше, но не замечал раньше. А теперь, понял вдруг Федор сейчас, он будет все время замечать в Шуркиных глазах эту боль, от которой ему тоже больно. И терзаться своей виной, в которой не виноват.
Но все равно, кроме Людки, не было для Федора человека ближе, чем Шура. И сейчас он ощутил это в себе как-то по-новому, с болью.
Отец бы хорошо понял Федора, Комаров-старший, если бы видел сейчас их рядом — Федора и Шуру Матвееву. Знал по себе эту больную вину, в которой не виноват. Но отца, к счастью, не было возле.
Федор все держал Шуру за руки, словно боялся, что она исчезнет.
Кругленький инженер Мурзин катился к проходной от депо. Остановился, сделав вроде сам себе ножкой. «Ого», — сказал сам себе. Свернул на грязную, непросохшую еще тропинку в обход, мимо ремонтников — к той же проходной. Покатился дальше, улыбаясь понимающе и добродушно.
14.13
Начальник станции «Чернореченская» Светлана Павловна Гущина только вошла к себе в кабинет, как зазвонил городской телефон.
— Да? — Светлана подняла трубку.
— Скажите, пожалуйста, — зазвучал будто рядом взволнованный женский голос, — у вас работает Анна Романовна Дмитренко?
— Дмитренко? Да, на смене сейчас.
— Это из триста восемнадцатой школы вас беспокоят. Гольцова, учительница продленного дня. Понимаете, ее сын…
Дмитренко стояла вверху на контроле.
— Молодой человек, единый билет не той стороной! Да, переверните, пожалуйста. Так, проходите…
— Аня, вы уж на перерыве были? — спросила начальник.
— Апельсины купила, Светлана Павловка, — сообщила Дмитренко. — Как раз при мне начали продавать, попала.
— Я вас тут пока подменю, — сказала Светлана. — Вам домой надо сбегать по-быстрому…
— Зачем? — испугалась Дмитренко.
— Нет, не волнуйтесь, — улыбнулась Светлана. — Из школы просто звонили. Антон почему-то сбежал с «продленки». Попросился выйти среди урока, пальто забрал в раздевалке, портфель — в парте, а сам удрал…
— Удрал? — удивилась Аня. — Он у меня как раз аккуратный. Почему же удрал? Заболел, может?
— Вроде не жаловался, — сказала Светлана. — Я тоже спросила.
Но Аня уже поняла.
— К черепахе, наверно. Черепаха дома у нас. Все беспокоился. Никогда не было, чтоб удрал. Я быстро, Светлана Павловна!
Аня заторопилась.
— Дома его почему-то нет, из школы посылали…
Это Светлана осторожно сказала, как главное. Но Дмитренко сразу сообразила, отнеслась спокойно.
— Значит, в двадцать шестой квартире, у Ольги Сидоровны, там у нас старушка. Он к ней из школы бежит, если меня нет…
— Вот-вот, — кивнула Светлана. — Гляньте все же.
Пока они разговаривали, через ближний к ним АКП прошла в метро девушка в меховой куртке. Три раза совала пятак, наконец — попала. Прошла к эскалатору, ступая быстро, неверно и четко. Аня Дмитренко ее не заметила.
Женька вовсе не узнала Дмитренко, скользнув по контролеру невидящими глазами. А хоть бы и узнала, так что?
14.15
Состав машиниста Комарова — тридцать первый маршрут — производил посадку на станции «Триумфальная». Стекло сбоку в кабине было приспущено, машинист-инструктор Силаньев стоял на платформе возле.
— Развелось бумаги! Пять инструкций за полдня поступило, хошь — наизусть учи, хошь — на стенку вешай..
— Вешай, почитаем. Сам всегда говоришь — инструкция на транспорте чьей-то кровью писана.
— Много стало чернильных…
— Ничего, нас давят, а мы крепчаем!
— Это конечно, — засмеялся Силаньев. — Но в кабине приятней.
— Садись, прокачу. Проведешь со мной воспитательную работу. Может, я не так еду, не туда, может, еду. А мне скоро на партбюро отчитываться…
— Это когда — скоро?
— Во вторник.
— Ничего, отчитаешься, не впервой. С тобой ехать — даром время терять. Ишь, компании ему захотелось.
— Зря ведь отказываешься.
Двери уже закрывались, в третьем — секундой позже.
— Весна-то какая, только пахать, — сказал еще Силаньев. — Ты горожанин, не понимаешь…
— Чего я понимаю! — Комаров засмеялся.
Но, трогаясь со станции «Триумфальная», почему-то» увидел трактор, который ползет в черной борозде. И увидел зайчонка, прыснувшего от трактора вбок, Павлу под ноги. Почувствовал запах сена вокруг. И только тогда узнал этот сеновал на маленьком хуторе, где-то под Вологдой, куда мать пристроила Павла на поправку после воспаления легких, к знакомым, летом сорок четвертого.
Сеновал был на чердаке, и весь чердак пропах сеном, сушеной черникой, которая спекалась прямо на крыше, крыша была как противень. Воробьи лениво выклевывали толстые ягодины. Но ягод было много в лесу и кругом, и воробьи ленились выклевывать. Солнце боком вылезало из леса, нащупывало чернику на крыше, прижигало ее, терпкий запах, запах выздоровления — хозяйка все поила Павла черникою с молоком — окутывал маленький дом, сухие жерди изгороди, толстую корову над толстой коровьей лепешкой, красных кур, одноглазого кота, пышно разлегшегося на перилах крыльца, мелкую речку, вприпрыжку бежавшую по камням за хутором, широкую спину хозяйки.
В теплых, как парных, сумерках хозяйка кричала с крыльца: «Колькя-а, ужинать!» Хозяйский сын Колька подгонял к дому трактор. Они с Колькой ночевали на сеновале. А внизу, в сенях, стояли на деревянных лавках вдоль стен кринки с молоком, налитые доверху. Павлу сейчас помнилось — очень много кринок. Лаз с чердака был открыт, сени хорошо видны сверху.