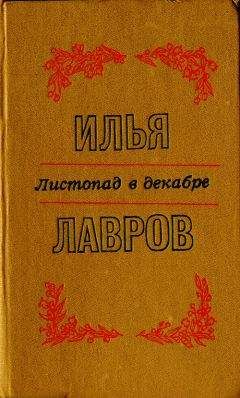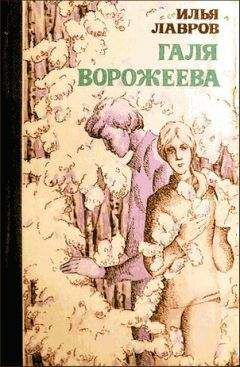Наконец появилась Васса.
— Засоня, засоня! — Тарелкин тряс ее руку.
Но Васса была сдержанной и даже холодной.
— Значит, сегодня до дому? — Голос у Тарелкина принужденно-бодрый.
— Билет уже в кармане. — Васса настойчиво высвободила руку и слегка зевнула.
Тарелкин задумался. Нужно было что-то делать. Нужно было торопиться сказать. В общем, нужно было все выяснить… Слишком мало были вместе, как скажешь обо всем? Ведь не поверит.
— На выставку? — спросил он.
У гостиницы сели в такси. Пока ехали — молчали. Тарелкин горбился и перебирал в руках носовой платок.
Выставка, которая всех поражала, для Тарелкина в эти минуты была далекой. Он смутно видел аллеи, красивые здания, клубы, рощи. Торопливо прошел мимо знаменитых фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба» и даже не заметил, что из водяных струй получался огромный кипящий сноп, который гнулся под ветром, окатывая фигуры танцующих бронзовых девушек.
Васса повернула к узорному павильону Узбекистана, но Тарелкин взял ее за руку.
— Потом.
— Я же уезжаю сегодня, — возразила Васса.
Они прошли в глухой уголок. Здесь был цветник. Сели на скамейку под рябинами. Ветви от ягод были словно в крови. Листья падали на голову, в клетчатый башлык, на плечи Вассы. Облака скупо процеживали солнечный свет.
— Еще хоть день не уезжай! — попросил Тарелкин, держа рябину за ветку. Изо рта его вырывались клубы пара.
— Зачем? — равнодушно возразила Васса.
Тарелкин взглянул на нее и оробел. Где эта шаловливая, светящаяся школьница? Рядом сидела строгая, чуть усталая женщина, намного старше, чем была вчера.
Тарелкин ощупывал листья, которые были уже мертвые и легко отделялись от ветки. Он искал какие-то особые слова и никак не мог их найти, а те, которые приходили, боялся сказать. И опять у него нелепо вырвалось:
— Зачем ты уезжаешь?
Васса усмехнулась.
— Странно. Ведь я работаю. А потом семья: сынишка, муж. Они ждут.
У Тарелкина вырвалась из рук ветка рябины, закачалась, в глазах зарябили цветы… И нельзя было упрекнуть. Ничего же не было сказано. И вообще ничего не было. Случайная встреча, это только он, Тарелкин, как мальчишка, что-то вообразил. Что-то померещилось ему небывалое в его жизни.
— Да… всякое бывает… — Тарелкин тяжело поднялся. — Пойдемте.
Он смотрел в ее лицо.
— Ты на гору, а черт тебя за ногу… Думал — теперь порядок. И вот опять забуксовал… — говорил сам с собой Тарелкин.
Васса смотрела на него, прищурив глаза.
Тарелкин попытался обнять ее, но она отстранилась и пошла. Оглянулась, лукаво помахала, как тогда в номере. Последний раз мелькнул ее бледно-золотистый плащ. Струясь, он тонко прошелестел, как листья под ногами, и скрылся за рябиновой рощей.
Тарелкин криво усмехнулся, снял кепку, вытер ею лицо, как вытирал после тяжелой работы.
— Был конь, да износился, — проговорил он. И медленно побрел, сам не зная куда.
Выйдя с выставки, остановился у огромной стальной статуи. Рабочий взмахнул молотом, крестьянка — серпом. Они соединили их над головами и стремительно, в могучем порыве шли вперед. За их спинами легко и буйно взлетали и развевались стальные одежды.
Тарелкин остановился.
Из-за голов, из-за серпа и молота на него летели облака, обгоняя идущие фигуры, и вдруг от движения облаков показалось, что стальная громада валится назад. Даже голова закружилась.
Тарелкин подумал, что и его жизнь так же вот валится, рассыпается. Но все было только обманом зрения: рабочий с крестьянкой неустанно шагали и шагали навстречу ветру.
* * *
Тарелкин вернулся домой скучный и сумрачный. Зашли к нему приятели, начали было хохотать, дурачиться, но Тарелкин хмурился и молчал. Ребята предложили нырнуть в «забегаловку», обмыть его приезд, но Тарелкин только отмахнулся.
— Да у тебя что — брюхо болит? — изумился Ванюшка.
Тарелкин долго, насмешливо и пристально разглядывал приятелей, а потом спросил:
— Ну, на кой вы леший живете, ребята? Неужели ни разу и не подумали об этом? Вот хоть бы ты, Иван, ну зачем ты появился на земле? Небо, что ли, коптить?
Ванюшка удивленно свистнул, а Юрка покрутил пальцем около лба: дескать, тронулся, мозги набекрень…
Дня через два Тарелкин принес Тулупникову заявление: просил освободить от работы.
— Ах, ах, ах! Видно, замучился, бедняга, целые дни читать романчики да спать в теплой, чистой машине, — по своему обыкновению начал язвить Тулупников.
— Надоело. И даже опротивело, — Тарелкин побледнел. — И жену вашу на базар надоело возить. И вас с дружками возить на рыбалку надоело.
Ему ярко вспомнилось: он мчится в немыслимой высоте, перед ним величавый синий простор с далекими караванами сияющих облаков.
— Не отпустите — убегу, — твердо заявил Тарелкин.
— Вечно ты выкидываешь какие-нибудь фокусы, — заворчал Тулупников. — Плохо тебе было у меня? А? Плохо? Целыми днями только баклуши бил. Ждал меня — вот и вся работа. Под моим крылышком у тебя не жизнь была, а разлюли-малина. Другие шофера ломают горб дай бог!
— Я подал заявление — и точка. Отчаливаю в неизвестном направлении. Документов не нужно. — Тарелкин плечом открыл дверь, ушел.
— Анархист! — взбесился Тулупников и схватил красный карандаш. На заявлении заклубилось размашистое: «Уволить».
…В вагоны с шумом и гамом садилось человек сто парней и девушек. Это студенты ехали на уборку урожая в молодежный целинный совхоз.
В купе к ребятам ввалился коренастый крепыш в клетчатой ковбойке с засученными рукавами, в синей спецовке с лямками через плечи. Красные яблоки оттопырили два нашивных брючных кармана. В третий, на груди, — втиснута книжка. За ухо заложена лиловая астра, за другое — папироса, а под кепку подоткнут карандаш.
— Привет вам, юность нашей страны! — проговорил он и швырнул большой рюкзак на третью полку. — Оставь прихоть — ешь курятину! — подмигнул он хорошенькой студентке, выдернул из-за уха астру и, галантно изогнувшись, преподнес ей цветок. — Дети мои, прошу вас отведать! Из собственного сада! — В разные стороны полетели яблоки. Парень так быстро выхватывал их из карманов, что казалось, будто сыпал из рукавов. Студенты ловили. Яблоки звонко хрустели на зубах.
— Ты, друг, из какого института?
— Откуда свалился в наше купе?
— Я — дикий, я — сам по себе… — Крепыш уселся и с наслаждением закурил. — Якорь поднят, плыву в совхоз.
— А какая у тебя профессия?
— Видите? — и парень показал жесткие ловкие руки.
— Ну и что?
— Как это — что? Они же золотые. Разве не видно? Им подавай любую работу!
Парень засучил рукав, и все прочитали дымчато-голубые слова: «Ты, работа, меня не бойся: я тебя не трону». Студенты захохотали на весь вагон.
— Оставь прихоть — ешь курятину! — кричал парень.
Все смотрели на него с любопытством. Поезд дернулся.
— Вот так-то, братцы, — уже серьезно сказал незнакомец и припал к окну. Высоко в небе громоздились мягкие, светоносные казбеки и эльбрусы. Между ними скользил черный крестик самолета. А в купе свежо пахло яблоками.
1956Вика закаляла волю.
В детстве она болталась на турнике вниз головой до тех пор, пока не темнело в глазах. Однажды на белке лопнула жилка, и глаз долго был красным.
Или выдумала себе задачу: час простоять на одной ноге. И стояла. Трясущаяся нога подламывалась, а она все стояла.
А то решила два дня голодать. Мать уговаривала, плакала, но Вика терпела.
А какая нужна воля, чтобы не дышать пять минут? Лицо краснело, жилки вздувались, и, наконец, презирая себя за безволие, слабость, она раньше положенного срока жадно хватала воздух.
Теперь она, десятиклассница, смеялась над этим детством и вырабатывала волю по-другому. Она просто все делала наперекор своим желаниям. Вот сейчас хотелось спать, но она решительно вскочила. Схватила ведро, выбежала в сад.
Соседская девочка разбивала камнем грецкие орехи.
— Надюха! Иди сюда! — крикнула Вика.
Она открыла кран водопроводной колонки, и сияющая тугая струя ударила в днище. Вика боялась холодной воды. Поэтому она строптиво тряхнула светлыми волосами и распорядилась:
— Выплесни на меня! А если я вскрикну — ударь ведром!
Надя поспешно сунула камень за пазуху.
Вика прислонилась к джиде с серебристо-голубыми мелкими листьями и небрежно закинула ногу за ногу. Но лишь Надя подняла ведро, Вика, отскочив, закричала:
— Ой, подожди! — Но тут же топнула: — Трусиха! Противно смотреть! Плещи, Надька!
Толстый и прозрачный пласт воды вспыхнул на солнце, обрушился на Вику. Она завизжала, пугая в саду ярко-желтых с черными крыльями иволг, полосатых удодов. Трусы прилипли к телу, с головы текло.