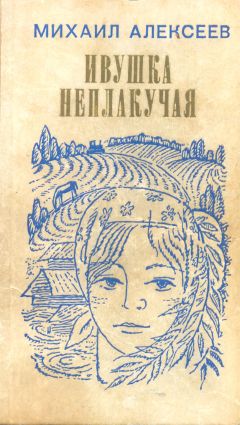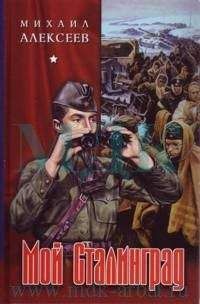— Феня, чего-то хорошо, сладко на сердце! Отчего бы Это, а, Феня? — Помолчав, добавила: — А Степанида-то Лукьяновна — золото. Правда, Фень?
— Правда, Настя. Оно во всех нас есть, золото.
— Ив Маше?
Феня немного подумала.
— Может, и в ней. Доброе-то в человеке заглушить легче, чем дурное. Дурное так и лезет в глаза всем. А хорошее надо еще увидеть, разглядеть да все время ухаживать за ним, чтобы не увяло, не засохло, не пропало в человеке. Пропалывать надо, очищать от сорняков. А как же ты думала? Вот взять гриб мухомор. Он завсегда на виду…
— И верно: высокий, нарядный такой, с белыми крапинками на красной голове. Красивый-прекрасивый, прямо как цветок!
— Красивый, а есть нельзя. Сразу отравишься. А настоящий-™ гриб надо еще поискать, он в глаза людям не лезет. Зачем ему красоваться, коль он и так хорош? Такое и промеж людей бывает. Вспомни Епифана — мужик с виду ладный, веселый, многие незамужние девчонки и то на него украдкой поглядывали: ведь нам нравятся озорники, это уж известно. А когда дошло до дела, подлецом и трусом самым что ни на есть распоследним обернулся наш Пишка. Поняла?
— Поняла, — сказала Настя еле слышно, и лобик ее наморщился от какой-то трудной думы.
— Ты у нас умница, Настя, — так же тихо сказала Феня, закутывая девушку потеплее. — Когда отыщется хорошее, пускай даже не в тебе самой, а в другом человеке, и на твоей душе все одно праздник. Потому, знать, тебе и хорошо сейчас. Ну, давай спать. Руки и ноги гудут, гудут, гудут, моченьки от них моей нету, хоть плачь.
— А правда, почему ты никогда не поплачешь с нами, Феня? — спросила вдруг Настя.
— Откель тебе знать, плачу я аль нет? Может, я реву больше всех, да только никто не видит. Зачем я буду выставлять перед людьми свои болячки, когда у них и своих хоть отбавляй?.. Прижмись ко мне поплотнее. Вот так. Тепло? Ну то-то же. Спи.
На посиделки собрались в доме Соловьевой. Изба у Маши пустовала. Ни матери, ни отца у нее не было — померли в тридцать третьем, — ни свекрови со свекром, а детьми обзавестись не успела: слишком скоро и бесцеремонно война увела ее суженого, за которого она и вышла-то без любви, а так, лишь бы не остаться одной и не прослыть старой девой, — во всяком случае, в этом Маша усиленно уверяла подруг и особенно, конечно, всех своих случайных залеток. В пользу Машиной хижины говорило еще и то, что она стояла почти посередь села, и женщинам не надо было уходить далеко от своих домов, а также и то, что хозяйка охотно шла на это. Было еще и другое, может быть самое главное в пору рано начавшихся и свирепых морозов, — Соловьева не нуждалась в дровах: Архип Колымага старался изо всех сил и в несколько ночей, пока Маша пахала на своем тракторе зябь, завалил сухими, по большей части дубовыми, сучьями весь ее двор и немалое пространство перед двором, на радость воробьям, коим теперь тоже было где проводить свои шумные собрания.
— Так натоплю печь и голландку, что хоть парьтесь прямо в избе, девчата! — хвасталась Маша, обходя подруг и сзывая их на посиделки. — Только еды не спрашивайте. В моем доме — хоть шаром покати, хлебной корочки не сыщешь, котенок и тот сбежал с голодухи. И ухажеры пошли — один скупее другого! Баранчика бы, что ли, подкинул кто… — И Маша вздыхала с огорчением.
Управившись с домашними делами, убрав свою и колхозную скотину, женщины кто с прялкой, кто с большим клубком шерстяных ниток, кто с чесальными гребенками, кто с начатым уже вязаньем, кто с приготовленной для пряжи шерстью с наступлением темноты направлялись к дому Соловьевой. Маша встречала каждую у калитки, вводила в избу и указывала отведенное загодя место. Первыми объявились девчата, за ними — молодые солдатки (этих было больше), потом солдатки постарше, приползли было совершенно древние старушенции, но этих хозяйка быстро наладила домой, избавившись таким образом от не в меру длинных и не ведающих покоя языков.
— Ну, кажись, все собрались? — Маша пробежала шустрыми, ухватистыми своими глазами по лавкам и табуреткам, на которых сидели в полной готовности женщины и девчата, горько усмехнулась, вздохнула: — Хотя бы какая из вас штаны надела, все бы мужским духом повеяло, а то… Что это за посиделки без парней и мужиков!
Соловьева, однако, поторопилась с печальным выводом. Вскоре явились и кавалеры. Правда, по временам мирным девчата, скорее всего, и на порог не пустили бы их, но теперь война, а по ее жестоким, безжалостно урезанным нормам и эти были впрок. В минуту, когда уже завертелись, зажужжали колеса прялок, запели вьюшки, побежали от проворных женских рук веретена, замелькали в пальцах спицы, когда тени от всего этого запрыгали, засновали по освещенному двумя лампами потолку, дверь распахнулась, и в ней в клубе холодного пара пропечаталась высоченная фигура дяди Коли. Из-под правой и левой рук, как цыплята из-под клушки-ных крыл, вынырнули Павлик Угрюмов и Мишка Тверское, а вслед за этими тремя в жарко натопленную избу повалила толпа других мальчишек, а также мужиков и стариков, опахивая уже разомлевших от тепла женщин ядреным холодком полушубков, фуфаек и пиджаков. Когда только успел дядя Коля наскрести такое количество разнокалиберного этого народу и кого только не приволок с собою на Машины посиделки! То, что пришли сюда Павлик, Мишка Тверсков и еще несколько их одногодков, это никого не удивило! двенадцати- и четырнадцатилетние, они могли смело изображать из себя женихов, поскольку война позаботилась об их ускоренном возмужании. Но вместе с ребятишками в избу протиснулись старый огородник и рыболов Апрель, почтальон Максим Паклёников, пастух Тихан Зотыч и еще пяток таких же мужиков. Теперь они, подсмеиваясь друг над другом, подтрунивая и над самими собой, не спеша привычно усаживались на согнутые ноги возле голландки, быстро перенося ее свежую побелку на свою одежду, вынимали из карманов кисеты, отрывали от газетного листа большие дольки и скручивали цигарки.
— Что, ай не рады? — на всякий случай осведомился дядя Коля и, не дождавшись ответа (поскольку не испытывал в нем никакой нужды), продолжал, торжествующе оглядывая свое задымившее вдруг, точно на привале, войско: — Робятам этим по нонешним временам цены нету. Про пацанов не говорю — они в самый аж раз. Но и с этих… сдуньте-ка с нас, старичков, пыль, вытрусите хорошенько да приголубьте, тогда посмотрите, какими орлами мы обернемся!
Маша не стерпела:
— Потрясти и потрусить вас мы можем, да как бы не рассыпались вовсе.
— А ты, Машуха, испробуй, а вдруг самая-то заглавная деталь в нас и останется! — предложил Апрель под общий хохот.
Солдатки обливались слезами от смеха, поджимали животы, а Катерина Ступкина умоляла:
— Перестаньте же вы, сил моих нету! Нагрешишь с вами!
Настя Вольнова, покраснев, поспешила пустить свою прялку на полный ход, затеребила, задергала шерсть из деревянного гребня шустрыми пальцами.
— Вы что, помогать аль мешать нам пришли? — строго спросила Феня, а глаза ее были мокрые от смеха и счастливые, и если она чего и боялась в ту минуту, так это того, как бы эти веселые старики и ребятишки не поднялись и не оставили их тут одних.
К счастью, председатель достаточно пожил на свете, чтобы понять истинную цену строгого ее тона. И все-таки решил припугнуть:
— Мы что ж. Мы можем и уйти, коли мешаем. Ну как, мужики, может, лучше уйти нам? Зачем отвлекать славных тружениц от сурьезного дела! — И он демонстративно поднялся на ноги, пригасил пальцем недокуренную самокрутку, упрятал ее в карман полушубка.
— Что вы?! — испугалась хозяйка. — Да мы без вас тут с тоски подохнем. Оставайтесь, скоро песни будем петь.
— Ну, а как Фенюха? — спросил дядя Коля и глянул на Феню хитрющими, упрятанными за седой занавесью бровей глазами. — Что она скажет?
— Оставайтесь, чего уж там! Только дымите поменьше.
— Мужику без дыма нельзя, — пояснил Апрель. — Дым мозги прочищает и дурь всякую из головы гонит. Да нам, старикам, в дыму-то перед вами только и сидеть: не всякую овражину да бородавку на нашем обличье разглядеть сможете, все вроде помоложе.
— Бородавку на твоем носу, Артем Платонович, никакой дым не прикроет, она у тебя как Большой мар на Правиковом поле, — сказала Маша.
Апрель согласился, добавив только:
— Да, она б, бородавка моя, на наблюдательный пункт сгодилась. Все как есть с нее было бы видно.
Позднее пришли «бронированные» Архип Колымага и комбайнер Степан Тимофеев. Женщины про себя подивились тому, что до сих пор еще не было среди мужиков Тишки, который, по всему, должен был бы притопать первым. В конце концов и его предупреждающее покашливание послышалось в сенях, некоторое время бригадир царапал с той стороны дверь, нашаривая ручку. Какая-то из молодых солдаток не преминула заметить, да так, чтобы услышали все: