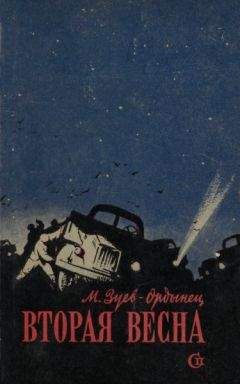— Хорошо, прекратим, — подавшись снова в угол, за этажерку, вздохнул прораб раздраженно и недовольно.
Директор и Борис двинулись к дверям. В прихожей Корчаков сказал:
— Утром вы хотели поговорить со мной.
— Теперь не требуется, — нахмурился Борис.
— Что так? Уже не требуется? А вы не судите о людях только по их ошибкам. Он опять, кажется, накуролесил? Мефодин наш?
Борис насупился и не ответил.
На крыльце Егор Парменович остановился.
— Вы все же напомните мне о Мефодине, когда приедем на Жангабыл. — Он сел на перила и обнял крылечный столб. — Мефодин парень яркий, но может и удила закусить. Надо будет дать ему такую работу, чтобы вздохнуть было некогда. Чтобы прекратил он свои прыжки в сторону. Вы уж не забудьте напомнить. Я ведь закрутиться могу. Хорошо?
— Пожалуйста! — с деланым равнодушием пожал плечами Борис и поспешил перевести разговор. — Какое у вас впечатление от записок Темира Нуржанова? Практически они дадут вам что-нибудь?
— И что это вы, молодежь, так практицизмом заразились? — поморщился Егор Парменович. — Обязательно вам — практически! Практически большой ценности его записки не представляют. Это для нас пройденный этап. И в мечтах его много наивного. Но он глубоко прав в одном: надо было разбудить степь. Довольно ей потягиваться. А дорого нам другое. Сам Темир! Как умел он обострить в себе ответственность за дело, которое считал народным! И в этом его сила. Учиться нам надо у него! Не похож он на многих боязливых, смирных, заранее готовых уступить. Очень беспокойный человек!.. А слова-то какие хорошие: золотая цепочка! А вы — «что практически дадут?» Мечтать надо, мечтать, молодежь!
Директор спрыгнул с перил и начал натягивать перчатки.
— Постойте! — шлепнул он по ладони еще не надетой перчаткой. — Как это наш «мужичок с ноготок» сказал?.. А вы заметили: глазенки у мальчугана сердитые, брови взъерошил, а сердце небось замирает. Еще бы, такие всем нам слова сказал… Вспомнил!
И он с удовольствием повторил совсем военные слова:
— Будем пробиваться!
Глава 24
О закопёрщиках, о двенадцати одеялах бая Узбахана и о предсмертном крике человека
Как ни торопились Корчаков и Садыков, а все же когда «вечевой колокол» на «техничке» зазвонил «трогай», день заметно переломился на вторую половину.
Борис стоял, пропуская тихо идущие, еще не набравшие скорость машины, ожидая самосвал «мужичка с ноготок». Его заинтересовал этот незаметный паренек, с недюжинной силой в сердитых глазах. Самосвал подошел, и Борис на ходу вскочил в кабину. «Мужичок» недовольно покосился и проверил, хорошо ли пассажир прикрыл дверцу.
Сразу за школой дорога вошла в узкое ущелье, заросшее высоким и густым кустарником. Нависшие ветви закрыли небо и солнце. Стало темно, как в туннеле. Машины пошли напролом, по-медвежьи раздвигая и подминая кусты. Тугие сучья захлестали по стеклам кабин. Идущая впереди машина часто пропадала в зарослях, и только по колыханию ветвей шоферы угадывали, куда править. В приспущенное окно сладко, тленно тянуло прелой листвой, потом пронзительно ударило горечью оттаявшей осины. Дичь, глушь, заповедные места! Лежки зверей в примятых кустах, летящие по ветру пух и перья растерзанных птиц, пламенеющие на сучьях очески линяющей лисы. А когда Машина вышла на большую поляну, далеко впереди мелькнуло золотистое и живое. Это бежали опьяненные жизнью и любовью, поигрывая в радостном избытке сил, седовато-бурый лисовин с холеным хвостом и красно-золотая лиса. Борис вздрогнул от звериной красоты любовной этой игры и от своей страстной тоски. Над ухом громкий Шурин голос сказал: «Он красив и талантлив». Звери полыхнули хвостами и пропали.
Кустарник начал отходить от машин и разом, будто его смахнула ладонь, пропал. Машины вышли на горные подъемы. Внизу открылась прощально степь. Она, как море, вставала стеной и подпирала небо. Но скоро ее закрыли скалы. А дорога все поднималась крутыми взлетами и виляла, юлила, ныряя в ущелья и узкие, как коридоры, отщелки. «Мужичок с ноготок», не бросая штурвала, часто вытирал с лица пот сгибом левой руки.
— Недавно, наверное, ездите? — спросил Борис.
— Недавно, — коротко ответил шофер осевшим от напряжения голосом.
— С курсов Садыкова?
— С курсов товарища Садыкова, — не отрывая глаз от дороги, ответил «мужичок с ноготок» и улыбнулся. — А что? Боитесь угроблю вас на такой дороге?
— Что вы, и в мыслях не было такого! — горячо запротестовал Борис. — Машину вы прекрасно ведете. Давайте знакомится. Как ваше имя?
— Галя, — прохрипел шофер, привычным движением, в десятый раз за несколько минут, переводя рычаг.
— Виноват, как? — решил Борис, что он ослышался.
— Да господи боже мой — Галя! Поняли теперь? Галя Преснышева! — Губы ее опять дрогнули в улыбке. — Ну как? Остановить машину? На другую пересядете?
— Ядовитая вы девушка! — засмеялся Борис. — Вы из местных, казахстанских?
— Почти что так. Наш род казачий, с Горькой линии.
— Чувствуется, чувствуется казачья кровь! Как вы директора-то рубанули! По-казачьему, с плеча и с оттяжкой!
— И не думала я его рубать! Сказала, что полагается, — засмеялась Галя, не забывая прикрывать губой щербинку. По лицу ее заметно было, что она польщена словами корреспондента.
— Колхозница, конечно?
— Нет. Отец в торговой сети работает. И я собиралась в торговый техникум, а очутилась вот на целине.
— Романов с приключениями начитались? Галя вздернула плечо и посмотрела сердито:
— Вы, знаете что, вы мне разговорами не мешайте! Сами видите: дорога костоломка, мигнуть не успеешь — и под горой! На ней не езда, джигитовка нужна.
Борис промолчал. Дорога действительно становилась все труднее и труднее. Теперь приходилось, делая крутые зигзаги, объезжать вышедшие на дорогу, пока еще отдельные сосны. А выше, по склонам, встал в стройной тесноте могучий красный бор. И казалось, не машины поднимаются к лесу, а лес хитрит, незаметно, бочком, спускается на дорогу, посылая вперед отдельные сосны. И перехитрил-выскочил на дорогу и встал тесно, темно, величаво. Слышен стал его нелюдимый гул.
Машины остановились. Галя устало откинулась На сиденье:
— Лес, о котором, помните, завгар говорил. На такой лес крепкие руки нужны!
Борис вылез из кабинки, сделал несколько шагов, и сосновый, кондовый лес обступил его. Сосны пугали высотой и мощью. Но вспыхнули костры, застучали топоры, и лес, черный, таинственный, перестал пугать.
Топоры, казалось, стучали во всех концах леса, а может быть, обманывало эхо. Борис в нерешительности остановился, но невдалеке блеснул небольшой костерчик, и он свернул в ту сторону.
Здесь работали ленинградцы, все та же неразлучная троица. Зубков и Сычев, стоя под деревом на коленях, водили по его комлю поперечной пилой. Работа у них явно не ладилась. Дерево сопротивлялось, визжало от злости под пилой и словно вывертывалось, выбрасывая пилу из реза. Не лучше было дело и у Сашки-спеца, делавшего для пильщиков зарубку. Яростно закусив губу, он с силой бил по сосне топором. Но недавно оттаявшая древесина была упругой и крепкой, как литая резина. Топор отлетал, почти не оставляя следа. Издав дикий, исступленный крик, Сашка начал бешено лупить по сосне, закрыв глаза, — нанося удары куда попало.
— Плохо, дите, работаешь, — послышался звонкий веселый голос. — Сопишь от злости, как медведь, а толку? Ты не силушкой бери, а бери уловкой да сноровкой.
Сашка открыл глаза. Рядом стоял, зацепив топор лезвием за плечо, Ипат Крохалев и с веселым изумлением смотрел на работу парня.
— Иди ты знаешь куда? — швырнул Сашка топор. — Спешить надо, а он лекции читает. Ты это брось, папаша!
— Ты мне, чудовище, руками не маши, не маши! — засмеялся, не обидевшись, Ипат. — Дай руку. Ладонь покажи!
Сашка протянул ему руку. Подошли, заинтересовавшись, Зубков и Сычев.
— Это чего? — ткнул Ипат пальцем в Сашкину ладонь.
— Ну мозоли набил. Ну и что такого?
— А то такого, что через час тебя в обоз отправлять придется, в санбат. Покажи, как топор держишь.
— Ну, вот! — взялся Сашка за топор правой рукой снизу, левой наверху топорища.
— Лесоруб! — с великолепным презрением протянул Ипат. — Мамке хворост для кухни так руби. Вот так держи! — положил он наоборот руки на топорище.
— Это все, глубокоуважаемый папаша, теория. Чистейший академизм! — сделал Зубков ногой плавный полукруг. — А вы на деле нам покажите.
— А что же, дите, давай покажу, — снял Ипат топор с плеча, поплевал на ладони и не сильно ударил в то же место, по которому лупил безрезультатно ленинградец. Сразу брызнула сочная, желтоватая, как репа, щепа. Удары ложились один на один, метко, без промаха. Работал Ипат радостно и люто, иначе никак не скажешь про красоту его неуловимо быстрых, легких, будто ничего ему не стоящих движений.