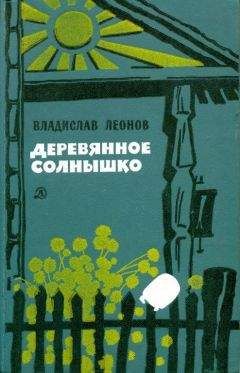«Пьяный» не стал садиться, он отворил калитку, вошел во двор.
«Какого дьявола ты тут потерял?» — только хотела как следует спросить разгоряченная Марья Ивановна, но человек сказал голосом Трофима:
— Здравствуй, Марья!
Пашкину мать и черт печеный не устрашил бы, но сейчас, узнав нежданного гостя, она смотрела на него изумленная, прикрыв рукой рот. Марья Ивановна, как всегда, вышла во двор без пальто и платка, в старом, с продранными локтями домашнем платье, в шлепанцах, из которых давно вылезали пальцы.
— Ой! — ответила она, бросаясь в дом и теряя по пути одну свою обутку.
Трофим поднял ее, словно принц Золушкину туфельку, и поковылял с нею к дому. За стеклом на миг забелело лицо Марьи Ивановны — широкое, чуть не во всю раму. Скрылось. Трофим ступил на крыльцо.
В доме хозяйка встретила его в пальто и валенках.
— Здравствуй, — сказала она растерянно. — Как дела?
Из своей комнаты вышел Павлуня. Сонный, он недоуменно уставился на гостя, который впервые переступил их порог.
— Уезжаю я завтра, — сказал Трофим, стоя посреди кухни с обуткой в руке.
Павлуня молча взял у него шлепанец, бросил за печку. Поставил стул, Трофим сел на него, вытянул деревяшку.
— В санаторий? — спросила Марья Ивановна.
Гость после короткого раздумья ответил:
— В санаторий.
— В какую местность?
Трофим наморщил лоб.
— В Сочи.
— Климат там хороший, — сказала хозяйка, которая никогда нигде не была.
— Хороший, — согласился Трофим. — Я проститься пришел и просить, чтобы Пашку ты не обижала.
— Да господи! — всплеснула она руками. Пальто от этого всплескивания слетело на пол. Марья Ивановна быстро подняла его, накинула, смущенно замолчала.
Трофим вытащил из-под пальто кошку, такую же суровую, как он, и опустил ее на пол.
— Вот, пускай поживет. — И снова повторил: — Не обижайте.
Марья Ивановна не любила кошек — бесполезных в хозяйстве тварей. Она опасливо погладила животное носком валенка:
— Оставь, не пропадет.
Трофим посмотрел на нее своим странным темноватым взглядом, буркнул «до свидания» и похромал к двери. Марья Ивановна в спину ему поспешно сказала:
— Чайку бы!
— Спасибо!
Он ушел. Сын с матерью остались вдвоем. Если не считать кошки, которая сидела у печки, молчала. Она не щурила глаза, смотрела кругло, в упор.
— Сидит? — буркнула Марья Ивановна.
— Сидит! — взглянул в окно сын.
Марья Ивановна приплюснулась к холодному стеклу. На скамейке возле ее забора сжался Трофим.
Павлуня быстро оделся, выбежал.
Трофим крепко держался за живот.
— Чего? — присел рядом Павлуня.
— Погоди...
Трофим подышал сквозь зубы. Вроде бы полегчало. Павлуня придвинулся к нему и, заглядывая в лицо, пожаловался:
— Осрамили меня... перед народом...
— Ничего, Алексеич, бывает хуже.
— Нет, хуже не бывает! — вздохнул Алексеич.
В доме скрипнула дверь: Марья Ивановна, высунув голову, прислушивалась.
— Странная она у тебя, — громко сказал Трофим. — Не хочет, чтобы ты человеком стал. Тянет в сторону.
— Тянет, — грустно соглашался Павлуня.
— А ты упирайся! Не маленький!
Дверь закрылась. Погасли окна.
Павлуня начал длинно рассказывать о сегодняшнем несчастном дне. Трофим, слушая его, странно ежился.
— Холодно? — посочувствовал Алексеич.
— Ничего, Пашка.
Зубы у него стучали, как он их ни стискивал.
Павлуня вскочил:
— Я шубу принесу!
— Не нужна шуба. Сходи-ка за лошадкой моей.
Павлуня всегда легко выполнял чужие приказы, мало над ними задумываясь, но тут ему понадобилось минуты три, чтобы осмыслить сказанное.
— Сейчас идти? — запоздало удивился он. — Темно ведь. Снег...
— Иди, Пашка, иди!
Тут же, под фонарем, Трофим нацарапал пару слов в блокноте, вырвал листочек, вручил Павлуне, тот побрел, оглядываясь.
Ворота конюшни были приперты колом. Пришлось долго ждать сторожа, который пришел из дома распаренный и недовольный. Сердито всматривался из-под рукавицы:
— Кого еще принесло?
— Меня, — ответил замерзший Павлуня. — Трофим велел Варвару взять.
— Пашка? — узнал старик и пошел отворять гнилые ворота. — Зачем тебе лошадь?
Павлуня молча протянул ему записку и направился прямо к Варваре. В конюшне, над проходом, горел редкий ряд ночных фонарей. В легком теплом тумане пахло сеном и лошадьми, которые кротко смотрели большими темными глазами. Павлуня шагал и каждую лошадку норовил ласково погладить, сказать ей доброе слово. Ковыляя за ним, дед Иван бормотал, что брать по ночам скотину — это не дело, и что вряд ли Трофимова Варвара пойдет с чужим.
Павлуня не стал спорить, молчком вывел лошадку на улицу. Она покорно дышала ему в ухо.
— Слушается, чудеса! — дивился сторож.
Варвара жевала Павлунин хлеб, а он тем временем запрягал ее в сани, управляясь с этим делом так ловко, что дед только покрякивал издали. Минут через десять Павлуня забрался в сани, чмокнул губами.
«Ишь ты, бежит!» — снова покачал шапкой дед Иван и, подперев ворота колом, отправился допивать чай.
Трофим сидел в той же позе, только был он вроде потолстевший.
Осадив лошадку, парень разглядел, что он в шубе, и порадовался материнской догадливости.
Трофим, не снимая тяжелой шубы, наброшенной поверх его легкого пальто, завалился вместе с ней в сани, зашуршал сеном, свежим, пахучим. Павлуня подоткну длинные полы ему под бока, подпихнул под локти сенца, не спросясь, сам уселся за кучера, деловито осведомился, куда править.
— Прямо, — сказал Трофим.
Варварушка, пофыркивая, не спеша побежала мимо клуба и музыкальной школы, мимо больших домов — к маленьким, от фонарей — во тьму. Скрипели полозья. Павлуня, забывший уже этот милый звук в громе да чаду, слушал его с удовольствием.
Вот уже ушла назад узкая лесная полоска, показался заброшенный пруд. Вывернулась, как по заказу, луна из-за тучи, осветила всю, как на холсте выписанную, картину: белую скамейку, старые ивы, снежные берега.
— Погоди-ка, — произнес Трофим.
Павлуня остановил Варвару. Седок тяжело вылез, подошел, длиннополый, как боярин, к самой корявой, в дуплах, иве и снял перед нею шапку. Парень с удивлением наблюдал, как Трофим поглаживает морщинистую кору старого дерева. Вернулся он, покашливая, и, когда Павлуня спросил, куда дальше держать путь, ответил:
— Прямо.
Павлуня поехал прямо. Там, на месте бывшей Климовки, валялись бревна да чернели ямы, присыпанные снегом.
Не вылезая из саней, Трофим тыкал рукой куда-то в сырую, трудно различимую полутьму:
— Там вон, Алексеич, пасека была. А там черемуха цвела, белая. А мне только-только семнадцать стукнуло...
Парень слушал, с большим сочувствием кивал.
Они долго скрипели полозьями в снежной ночи, то под луной, то без нее. Объехали почти весь совхоз и вернулись на центральную усадьбу, сделав изрядный крюк.
— Женька где? — неожиданно спросил Трофим.
— Учится, — с сомнением проговорил Павлуня.
Но когда проезжали мимо хоккейной коробки, услыхали знакомый петушиный крик: Женька гонял шайбу.
— Не зови, пусть, — остановил Трофим Павлуню, и полюбовался распаренным хоккеистом.
Когда Павлуня подвез его к дому, Трофим попросил
— Ты за Женькой гляди, пожалуйста.
— Ага, — ответил Павлуня недоумевая.
Седок вылез, скинул с плеч шубу:
— Тепленькая. Спасибо Марье Ивановне. — Он пожал Павлуне руку и сказал совсем непонятное: — Прощай, Алексеич. Живи. И сбереги мою лошадку.
Усталый и растревоженный Пашка вернулся домой. К его удивлению, мать, любившая ложиться рано, еще не спала. И сидела она не за чаем, а над толстой книгой, что лежала перед нею на столе. Увидев книгу, сын удивился еще больше: Марья Ивановна давно ничего не читала.
Он кашлянул. Мать захлопнула книгу, унесла ее в свою комнату.
— Чай пей. Горячий, — сказала она, не показываясь.
Павлуня лег, но заснуть сразу не мог. Он лежал, слушал, как за тонкой стенкой вздыхает и бормочет мать.
С утра круто завернула метелица. Загуляли белые вихри над полями и озерами, над Гнилым ручьем и Чертовым оврагом, над огородом Марьи Ивановны.
И сразу ожили на столе Аверина оба телефона — городской и местный. Замигали в диспетчерской зеленые огоньки на пульте, раздался писк рации: всем позарез стали нужны мощные гусеничные трактора — подвезти корма на ферму, вытащить застрявший автобус, очистить дорогу. Одна за другой уходили в метель тяжелые машины. Маломощные колесники стояли под навесом в ожидании прояснения.
Парни из Мишиного звена возились в мастерской. Здесь было тихо. Ярко горели лампы. Пахло машинным маслом. Хорошо работалось ребятам, даже неугомонный Женька притих и деловито погромыхивал «железяками», промывая их в бензине. Пришел помочь в ремонте и Боря Байбара. Руки у комсорга ловкие, и, глядя на них, Павлуня вспомнил Мишу и взгрустнул.