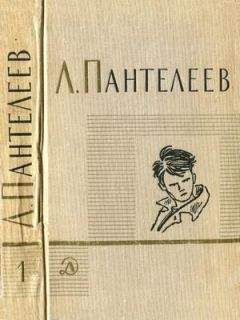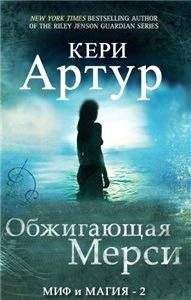Ленька снял фуражку и подошел ближе. В толпе громко, навзрыд плакали. Гробов на телеге стояло уже не меньше десяти, а их все выносили и выносили.
– Простите, пожалуйста, это кого хоронят? – вполголоса спросил Ленька у маленького, похожего на татарина, красноармейца, с серой, стриженной под машинку головой. Тот покосился на него, мрачно посопел и ответил:
– Тех, кто за нас с тобой кровь пролил.
– Убитые?
– Однополчане мои. Товарищи. Первый Советский пехотный полк. Слыхал?
– Нет, – сказал Ленька.
Из часовни выносили еще один гроб. Чтобы получше рассмотреть его, Ленька привстал на цыпочки и вдруг увидел в толпе женщин знакомое лицо. Он не успел удивиться и не успел спросить себя, что может здесь делать жена Василия Федоровича Кривцова, как сердце его, похолодев, само ответило ему на этот вопрос.
Кривцова стояла подальше других. Она не плакала, но бледные сухие губы ее были болезненно сжаты, а широкие калмыцкие скулы медленно двигались, как будто женщина пыталась перетереть зубами что-то очень твердое – камешек или гвоздь.
Музыка смолкла. Слышнее стали плач и причитания женщин. Толпа задвигалась. Какой-то черноволосый курчавый человек в белой русской рубашке, забравшись на краешек платформы и опираясь на штабель красных гробов, что-то говорил – то громко, почти крича, то совсем тихо, грозным шепотом.
Ленька ничего не видел и не слышал. Он протискивался через толпу, боясь потерять из виду Кривцову.
Телега с гробами тронулась. Женщины с плачем побежали. Кто-то на бегу толкнул Леньку. Он уронил фуражку, нагнулся, чтобы поднять ее, его опять чуть не сбили с ног. Когда он поднялся и выбрался из толпы, навстречу ему шла Кривцова.
Шла она позади всех, наклонив голову и покусывая кончик своего белого головного платка.
– Здравствуйте, – сказал Ленька.
– Здравствуйте, – безучастно ответила она, не останавливаясь и не поднимая глаз.
– Фекла Семеновна, – сказал он. – Вы что, не узнали меня?
Она остановилась.
– Ты кто? Постой… Да ведь вы из Чельцова? Питерский?
Что-то вроде улыбки мелькнуло на ее изможденном осунувшемся лице.
– Давно ли?..
– Я только что. Сегодня, с мамой приехал. А вы…
Он запнулся, не решаясь даже спросить, что привело ее в это страшное место.
– А я?.. Я у Василия Федоровича была.
– Где?
– Навещать приходила. Здесь он…
Ленька схватил ее за руку.
– Фекла Семеновна! Он жив?
– Живой, живой, – улыбнулась она усталой, измученной улыбкой и, выбрав свою большую грубую руку из Ленькиной руки, погладила его по голове. – Выходили его, спасибо. Уже четвертый день в памяти лежит. А до этого худо было. Не надеялась уж. Думала, что вот так же… с музыкой повезут. Ведь на нем еще в Нерехте доктора восемнадцать ран насчитали. Вы небось знаете, слыхали, какую над ним казнь эти ироды учинили?..
– Фекла Семеновна! – жалобным голосом воскликнул Ленька. – А где он? Посмотреть на него можно?
– Что ж, – сказала она. – Пойдем сходим. Он рад будет.
Она вела его за руку, а где-то впереди, уже за оградой больничного сада, на улице, глухо стучал барабан и все тише и тише пели трубы:
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный
…В больницу они проникли с черного хода, какими-то темными коридорами, где нехорошо пахло и стояли прислоненные к стене грязные брезентовые носилки. Фекла Семеновна знала здесь все ходы и выходы, и ее тоже все знали. У застекленной двери палаты их окликнула высокая худая женщина в белой косынке:
– Кривцова?! Голубушка, ты куда? Без халата!
– Дунечка… милая… на минутку… Сейчас уйдем.
– Ты же была только что…
– Да вот – с землячком повстречалась. Друзья они с Василием Федоровичем.
– Это ты землячок? – сказала женщина, с усмешкой посмотрев на Леньку.
– Пожалуйста… на минутку, – пробормотал Ленька, шаркая зачем-то ногой.
– Ну, бог с вами, идите. Недолго только. Сейчас обход будет.
Большая больничная палата была плотно забита койками. Не успел Ленька переступить порог, как в носу у него защекотало от крепкого запаха аптеки, уборной и кислых снетковых щей. Он робко шел за Феклой Семеновной, а со всех сторон смотрели на него из-под бинтов и повязок – любопытные и бесстрастные, голубые, карие, серые, веселые, грустные, злые, добрые, измученные и уже потухающие глаза. Во всех углах разговаривали, кашляли, бредили, стонали, смеялись, щелкали костяшками домино, стучали кружками и оловянными мисками…
Кривцов лежал в самом конце палаты, у окна. Ленька в испуге остановился, увидев, как похудел и осунулся председатель. Он стал еще больше похож на угодника с иконы. От белых бинтов, которыми была замотана его голова, лицо его казалось еще темнее. Красивая русая борода была коротко острижена. Он лежал на спине, полузакрыв ввалившиеся глаза, и шевелил губами.
– Василий Федорович, не спишь? Гостя прицела…
Он с трудом открыл глаза, неудобно повернул голову и прищурился.
– А-а! – сказал он слабым голосом, улыбаясь и делая попытку приподняться на локте. – Здравствуйте! Это как же вы? Какими судьбами?
– Я так… случайно, – забормотал Ленька, тоже пробуя улыбнуться. – Мы ведь не знали, не думали, что вы…
– Думали, что я богу душу отдал? Да?
Он держал Ленькину руку в своей большой теплой руке и с улыбкой смотрел на мальчика.
– Я рад, – сказал он тихо.
Ленька присел на корточки. Он тоже чувствовал огромную радость, он чувствовал нежность к этому большому, сильному, связанному бинтами и прикованному к постели человеку, но не знал, какими словами сказать об этом.
– Вы садитесь, – зашевелился Кривцов. – Вот табуреточка… Скиньте с нее… Фекла, помоги…
На табуретке стояла бутылка с молоком, лежали круглый хлеб, яйца, несколько огурцов и тоненькая книжечка с вложенным в нее карандашом.
– Ничего… спасибо, – сказал Ленька. – Я так. Мне ведь скоро идти…
Он сидел на корточках и несмело поглаживал руку Василия Федоровича.
– Ну, что там у нас… дома, в деревне? – полузакрыв глаза, спрашивал Василий Федорович.
– Ничего… так… все в порядке, – бодрым голосом отвечал Ленька, чувствуя на себе беспокойный, настороженный взгляд Феклы Семеновны. – Ваша изба в целости… Я заходил, видел.
– Да я не о том. Я хотел спросить: кто там у нас верховодит? Глебовы-то еще хозяйничают?
– Да. Федор Глебов на днях лавку открыл. Торгует. Сыновья его, которые раньше в лесу скрывались, теперь дома живут. А с Хорькой я не играю больше.
– Это почему ж так?
– Вы же знаете, почему, – нахмурился Ленька.
Он смотрел на Кривцова и думая, что председатель очень изменился. Не в том дело, что его остригли и что он похудел. Голос у него был расслабленный, больной, но в этом голосе не было уже тех нежных, девичьих ноток, которые так поразили Леньку когда-то в сумерках на Большой дороге.
– Ничего, – говорил он с невеселой усмешкой. – Пускай похозяйничают, потешатся напоследок… Ведь, дураки пошехонские, не понимают и понять не хотят, что Советская власть – навечно, что ее ни вилами, ни топорами, ни английскими пулеметами не сокрушить… Помните? – сказал он, открывая глаза. И опять в его голосе зазвучали теплые певучие нотки, когда, приподнявшись на локте, он хрипловатым голосом медленно, упирая на букву «о», прочел:
Рать подымается
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
– Это что? Откуда? – спросил Ленька.
– А это у Некрасова. Не читали разве? «Русь» называется… Несокрушимая!.. Это ведь про нас с тобой сказано, про наше времечко!..
– Василий Федорович, – сказал Ленька. – А это правда, что у вас…
Он запнулся.
– Что это у меня?
– Что у вас – восемнадцать ран?
Кривцов негромко посмеялся в бороду.
– Не знаю, дружок. Я не считал.
– Да, да, правда… Мне Фекла Семеновна говорила.
И, наклонившись к раненому, Ленька покраснел, как девочка, и сказал:
– Ведь вы – знаете, Василий Федогыч, кто? Вы – гегой.
– Ну вот! Придумали… Я, дорогой мой, русский мужик. А русский мужик – сильный, он все выдюжит. Это вот она у меня действительно героиня, – сказал он, улыбаясь и показывая глазами на жену, которая молча стояла у него в изножий, облокотившись на спинку кровати. – Ведь это она меня от смерти спасла…
– Полно тебе, Василий Федорович, – заливаясь румянцем, ответила Фекла Семеновна. – Не я тебя спасла, а дохтор… Вот он идет! – сказала она вдруг испуганным шепотом.
Ленька оглянулся.
Через палату быстро шел, размахивая руками и держа направление прямо к нему, невысокий румяный человек в белом халате и в белой кругленькой шапочке, сдвинутой на затылок.