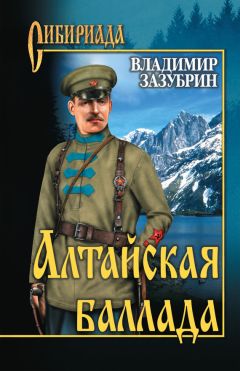Пожилой, рыжеусый партизан снял шапку, тяжело вздохнул. Около него чернела куча валенок, полушубков. Жестиков очнулся, хватил полные легкие дыму, подпрыгнул, хотел встать, но бедро у него было разбито, он смог только приподняться на четвереньки.
– В-и-и-у-у-у-й!
Свиной визг тонким, едким ударом кнута метнулся в тайгу, завяз в густой безмолвной чаще.
– Эх, живой попал! – Партизан бросил кочергу, вытащил из-за пазухи длинный, тяжелый «смит».
– Чего человеку мучиться.
– Не тронь.
Черный, высокий Летягин отвел руку товарища.
– У тебя что, патронов много, что ли? По падали не стреляют. Заслужил он этого. Сдохнет и так!
«Смит» нерешительно ткнулся за пояс. Не сильно, но отчетливо щелкнув, у Жестикова лопнули глаза. Волосы добровольца пылали, скипаясь в черную, вонючую пену. Язык огня, лизавший голову, был похож на яркий ночной колпак с острым концом и мохнатой дымчатой кисточкой наверху. Раскаленные щипцы разодрали живот и грудь. Жестиков скрючился кольцом, ткнулся в угли. Чубуков с Летягиным постояли немного молча, пошли помогать рыжеусому раздевать убитых.
– Еще бы чернозубого этого, рыжего дьявола поймать, который жану-то опозорил, – вслух подумал Летягин.
Потом они еще два раза ездили за трупами, снимали с них все до нитки, голых кидали в огонь. Привезли и бросили туда же замерзших Нагибина и Скрылева. Дрова подкладывали всю ночь. Трупы горели ровным синим огнем, почти не давая дыму.
– Ишь, как горит человек. Ровно керосин али спирт.
Партизаны курили, сидя на снегу. По черным сгоревшим человеческим головням бегали тихие синие огоньки. Снег кругом был залит прыгающими пятнами синьки и крови. Тайга, совсем непроглядная, темным валом обложила поляну. Мороз залазил партизанам под дохи, толкал их ближе к костру.
Утром в селе ударил колокол. Большой, тяжелый, широкогорлый. Ему ответил маленький, тонкоголосый. Вся колокольня заговорила грустно, тихо. Медные вздохи разбудили тайгу.
– Что это такое? Будто в Пчелине попа не было, а звон. Да никак похоронный? Кого-то хотят честь-честью проводить на тот свет. Но где взяли попа?
Чубуков недоумевал, разводил руками. Костер еще горел.
В комнате Агитационного Отдела Жарков спорил с Воскресенским:
– Слышишь, звонят, – говорил Жарков, – и ты должен будешь сейчас пойти в церковь, надеть ризу, отпеть семерых наших партизан и окрестить двух ребятишек у беженцев. Это уж ты как хочешь, а сделать должен.
Воскресенский раздраженно пожимал плечами:
– Я не понимаю, зачем эта комедия? Разве я для того снимал с себя сан, чтобы опять здесь восстановить его. Нет, я не хочу.
– А я тебе говорю, что ты должен. Меня старики еще вчера просили, чтобы, значит, все устроить по-христиански. Я согласился. Пойми, Воскресенский, что сознательных большевиков у нас не больно много, а попутчиков случайных сколько хочешь, их у нас сила, на них держимся. Ничего не попишешь, приходится им угождать.
– Как это все-таки противно.
– Потерпи, Иван Анисимович, соединимся с Красной Армией, тогда не станем и со стариками считаться.
В комнату вошла старуха просвирня, стала креститься на передний угол.
– Здравствуйте, крещены которы. Здорово живете.
– Здравствуй, матушка.
– Ну, который из вас батюшка-то, сказывайте? Воскресенский слегка покраснел.
– Я, а что?
– Ждут вас уж в церкви-то. Покойничков принесли. Пожалуйте.
Жарков, смеясь, отвернулся к окну.
– Иди, Иван Анисимыч.
Воскресенский махнул рукой, стал одевать доху. Церковь была полна. Партизан боком прошел через толпу, скрылся в алтаре. Золотая твердая риза сидела неловко, мешком. Воскресенский уже отвык от неудобных одежд духовного пастыря. Яркие большие кресты из толстой ткани смешно лезли в глаза. Стриженый, бритый, скорее похожий на католического ксендза, чем на православного священника, Иван Анисимович вышел на амвон, перекрестился, перекрестил народ.
– Во имя отца и сына и святого духа.
Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось. Убитые лежали в белых сосновых гробах.
– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Родные погибших плакали, клали земные поклоны. На улице развернутым фронтом, с красными знаменами выстроились две роты. Одна Таежного, другая Медвежинского полка. Воскресенский незаметно для себя вошел в роль священника, служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, за долгое время скитаний по тайге стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.
– И сотвори им в-е-е-чную па-а-а-а-мять! Люди опустились на колени, с плачем молили:
– Сотвори им в-е-е-е-чную п-а-а-а-мять.
Когда гробы были вынесены на паперть, партизаны запели:
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу… В
ы отдали все, что могли, за него…
Старики и старухи крестились, всхлипывали:
Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Нет, они не были рабами. Красные продырявленные пулями знамена отрицательно трясли своими полотнами: нет, нет. Партизаны, сжимая винтовки, снимали шапки.
О павшие братья, мы молимся вам…
Колыхнувшись, убитые пошли в последний поход. На кладбище Воскресенский вышел из церкви без ризы, в коротком меховом пиджаке и папахе. Поправил револьвер на широком ремне, быстро зашагал, догоняя похоронную процессию.
В деревнях, заимках, селах Таежного района белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы. Партизанское движение росло, крепло, ширилось. Крестьяне и рабочие, внешне спокойные и покорные, в сердцах носили огонь ненависти и жажды мести. Красный гнев клокотал палящей лавой. Красное было розлито всюду. Красной полосой легла на белый стан Таежная Республика. Красные точки и пятна сочувствующих и помогающих партизанам кишели в тылу у белых, в их рядах. Каждый шаг белогвардейцев, верный и неверный, тайный и явный, был известен партизанам. Крестьяне, женщины, старики, подростки, девушки добровольно осведомляли красных о всем, что творилось у белых, умело, незаметно разлагали их ряды, привлекали на свою сторону мобилизованных, обманутых.
В рождественский сочельник, перед рассветом, от Медвежьего к тайге по чистому полю, поскрипывая лыжами, быстро скользили двое. Среднего роста, крепкий, широкоплечий, с длинной серебряной бородой, в малахае и белой дохе – Федор Федорович Черняков и высокий, костлявый, бритый, с короткими, обкусанными, торчащими щетиной усами, в рыжем телячьем пиджаке и таком же картузе – Никифор Семенович Карапузов. Старики гнулись под тяжестью больших мешков, привязанных за спиной. Они везли партизанам медикаменты, купленные в городе. Лыжи глубоко уходили в снег, нападавший за ночь. Идти было трудно. Под теплыми мехами на спине и на груди у лыжников рубахи отсырели от пота.
– Закурить бы надо, Федор Федорыч, – остановился Карапузов.
– Оно бы, конешно, хорошо, Никифор Семеныч, да как бы не заметили нас?
– Ну, в этаку темень да рань. Поди, спят все без задних ног.
Карапузов вытащил из-за пазухи короткую самодельную трубку. Черняков достал кисет. Сбоку в темноте фыркнула лошадь. Старики вздрогнули, насторожились На дороге отчетливо хрустели конские копыта, едва слышно брякало оружие. Несколько красных точек, покачиваясь, плыло к тайге.
– Смотри, курят. Ведь это орловские молодцы в разведку поехали, – шептал Черняков.
Разъезд гусар шагом шел по дороге на Пчелино. Корнет Завистовский, безусый восемнадцатилетний мальчик, опустил голову и, развалясь в седле, мурлыкал под нос:
Свое мы дело совершили –
Сибирь Советов лишена…
Молодой офицер перед выездом из села выпил немного спирту, был весел. Новенькая, мягкая, длиннополая черная барнаулка грела хорошо. Косматая тресковая папаха закрывала оба уха.
– Так и есть, они.
– Давай дернем в сторону с версту и прямо Пчелинским логом ударимся на спаленную сосну.
Старики спрятали табак, повернули влево. Лыжи хрустнули, тихо взвизгивая, заскользили по белому пушистому ковру. В сумерках рассвета долго, осторожно шли по тайге. Задевая за сучья, роняли вниз чистые белые хлопья. У разбитой, опаленной молнией сосны остановились, сняли с плеч мешки, закурили. Между деревьев медленно светало.
– Ну, однако, пора стучать.
Черняков выдернул из-за пояса топор, стал редко, с силой бить им по сухому стволу. Ударив десять раз, остановился. В тайге шумело эхо. Затрещал бурелом.
– Что это, медведь, что ли? – спросил Карапузов.
– Какой теперя медведь. Медведь лежит. Карапузов сконфуженно махнул рукой.
– Фу, смолол. Хотя, мож, его спугнули? Иль, мож, это зюбрь[13]?