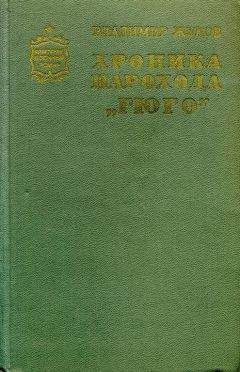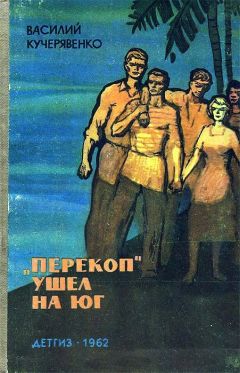— В департаменте чистоты, значит, — рассмеялся Жогов, радуясь, что проходит первый, странный такой, нелепый испуг. — Больше, поди, платят? Вредная работка?
— И это есть. А главное — сам себе голова. За баранкой человек один.
Вот теперь Жогов вспомнил, о чем они толковали в прошлый раз. Про это же толковали, как, мол, хорошо, когда ты сам себе голова. Начали-то с газеты, американец газету показал и заговорил про дела на фронтах и вообще про войну, что она, дескать, принесет свободу миллионам людей. Но потом как-то само собой повернулось на другое. Американцу понравилось, как он, Жогов, ввернул: «Мы, русские, народ артельный, да всегда каждый избу сам ставил, жену сам выбирал и коня с ярмарки тоже сам вел. Артель, она все равно из отдельных человеков состоит!» А он, кепка, тогда сказал: «Интересно! Напрасно, выходит, говорят, что в России люди скопом живут, одним умом пользуются. Оказывается, есть такие, что ценят самостоятельность. Вы, я вижу, такой, да?»
Вот дальше не помнится разговор. Наверное, шел в том же духе. Потом у американца обед кончился, в трюм он полез и газету пухлую, страниц в пятьдесят, на память оставил. «Кроникл» или «Ньюс» какая-то.
И Жогов подумал: «Со сколькими вот так работягами в разных портах потолкуешь и разойдешься навсегда. А этот, вишь, запомнил». И еще подумал, что особенный он какой-то, белая кепка. И не русский, сказал, а язык знает хорошо. С пословицами даже, с поговорками. Выговор только выдает, что чужак. Не «Жогов» говорит, а «Жогофф». Из прибалтов, наверное, а может, немец. Или голландец, чех — кто их тут, в Америке, разберет, перемешали все нации в одну.
— А память у вас, я смотрю, ого! — сказал Жогов. — Это ж надо — фамилию запомнить, узнать. С такой памятью профессором можно стать!
— Бог не обидел, — согласился белый. — Я, знаете, тот наш с вами разговор приятелю своему пересказал. Поточнее постарался передать, как мог, и он записал, приятель. Он, знаете, журналист. У него получилось отличное заочное интервью. Приятель был просто в восторге. «Свобода: искреннее мнение советского моряка» — такое он название придумал. Сказал, вам за интервью причитается...
И опять все внутри поехало вниз. Жогов даже сполз с трюма, вытянулся во весь рост, похлопал себя по бокам. Вот ведь чуяло сердце, что этот, в белом, не зря пришел, что-то подстроит, мину подведет.
— А... напечатали? Уже напечатали? — спросил, беспокойно ощупывая кепку взглядом.
— Да нет. На то согласие ваше надо. Но аванс можно хоть теперь получить, приятель готов в любую минуту выдать. А согласитесь напечатать — весь куш получите.
Они замолчали. Жогов опять сел на угол трюма, отвернулся. Смотрел, как по воде быстро шел синий военный катерок и как падали и взмывали чайки. Потом рассмеялся громко, прямо в глаза рассмеялся кепке:
— Вербуете, что ли; куда? Вербуете, так и говорите. А я потом вахтенного помощника позову. Пусть он тоже интервью сочинит. Для полиции. Посмотрим, что она скажет, полиция союзного с нами государства. Хотя вы, может, на японцев трудитесь, а?
— Фу, как грубо, Жогов! — белый засмеялся и тоже громко, вроде в ответ на шутку: — Если бы я занимался таким делом, я бы кого-нибудь посолидней у вас на пароходе избрал. В смысле служебного ранга. Но меня государственные тайны не интересуют. Если уж вы хотите знать, кто я, кроме того, что вожу из порта мусор на свалку, так я, можно сказать, повивальная бабка. Помогаю людям родиться на свет, второй раз родиться... Вот вам, Жогов, я сразу почувствовал, хочется от жизни большего. И правильно хочется. Иначе бы не было прогресса в человеческом обществе. А мы в Америке считаем своим долгом всячески помогать прогрессу. Всем, чем возможно. Вряд ли вы бы захотели, скажем, переменить подданство, хотя и нашлись бы люди, которые помогли бы вам в этом. Что ж, ваше право... Но ваша мысль, ваш жизненный опыт, ваши устремления тоже сила. Вы способны ими положительно влиять, и мы ценим вас за это, мы аплодируем вам.
Белый как-то неожиданно умолк, осмотрелся вокруг, будто проверял, не слушает ли его кто еще, и Жогов стащил с головы грязную рабочую панаму, подбодрил:
— Сладко поете! С вами небось за бутылкой хорошо посидеть.
— О, прелестно! — улыбнулся белый. — Может, встретимся? Вы теперь человек богатый, Жогов. Аванс за интервью! Можете пригласить меня в самый шикарный ресторан.
— Торопитесь. Я вам еще согласия не давал. Какое ж тогда богатство? Да и в одиночку мы на берегу не гуляем... А вообще-то не сегодня-завтра в море уйдем.
— Жалко. Придется в другой раз. И приходите вдвоем, втроем. Адрес: 1002, Монтгомери авеню, Сиэтл. Это журналиста адрес, который обещал аванс. Он с радостью распахнет перед вами двери...
По палубе затопали, загрохотало железо. Надя Ротова и Нарышкин, волоча лопаты, бежали, словно наперегонки. Остановились, раскрасневшиеся, громко переводя дух.
— Где пропадали? — строго спросил Жогов. — Думаете, я с вами до ночи буду валандаться?
— Крыса, — сказала Надя. — Крыса там. Мы пришли к подшкиперской и видим — бежит к нам на пароход по швартову. Здоровенная такая, брюхо отвисло и хвост длинный-длинный. Бр-р...
— Я ее чуркой в воду сбил, — сообщил Никола, — а она плывет. Надо же!
— Крыса что хочешь сделает, — наставительно изрек Жогов. — Ни один вид животных на своих не кидается, не забивает до смерти — ни тигр, ни волк. Только крысы. Я читал. — Он посмотрел на стоявшего молча американца и спросил: — Правильно?
Ответа не было. И Жогов вдруг понял, что американец не подает вида, что знает по-русски, не хочет обнаруживать этого при ребятах. И следом к Жогову пришло чувство гордости собой, ощущения своей особенности, как будто ему доверили важную тайну. Он развернул плечи, поправил панаму и приказал:
— Ладно, крысоловы, чешите к мусорному ящику. Работать у меня как на аврале!
Нарышкин и Ротова нагрузили ребристый бак, подцепили его к крюку, свисавшему с поднятых стрел. Так и пошло — бак за баком. Управились быстро, боцман еще не успел явиться, произвести ревизию.
Перед тем как уехать, американец подозвал Жогова к трапу и протянул бумагу вроде счета, вроде квитанции, что он, кепка, мол, свое дело сделал — мусор увез. Жогов хотел вызвать вахтенного помощника, чтобы тот подписал официально, но американец замотал головой, по-английски сказал, что хватит и его, Жогова, подписи. И он опять, Жогов, подумал, что при других, при часовом у трапа, хоть тот и далеко, кепка не говорит по-русски.
Взял карандаш, стал расписываться в том месте, куда указал чистый, удивительно чистый для мусорщика палец, а потом листок исчез, и в руках Жогова оказался узкий конверт с надписью:
«1002, Монтгомери авеню, Сиэтл».
— Небольшой презент, — сказал мусорщик. — На память о приятной встрече. Что-нибудь купите себе. Тут сущий пустяк. И чтобы не забылся адрес, где вам всегда будут рады...
Жогов быстро спросил себя: «На черта мне подарок?» Спросил, а рука как бы сама собой опустила конверт в карман. Он подумал, что, конечно, никогда не пойдет туда, в дом № 1002, но это приятно — иметь в чужой стране адрес, куда всегда можно прийти.
Американец смотрел серьезно, выжидающе, и Жогову теперь неловко было его обижать: напрасная, дескать, затея. Он похлопал на прощание по белому плечу и сказал весело:
— Мэйби, мэйби!
Часовой у трапа, знай он английский, определил бы, что Жогов сказал: «Может быть». Но он бы не понял, к чему это заявлено, по какому поводу. А самое главное, никто на судне, даже сам капитан, не мог знать, придет ли еще когда-нибудь «Гюго» в Сиэтл, штат Вашингтон, США. Пути пароходов неисповедимы.
ЛЕВАШОВ
Странно, как просто наша с Маториным героическая сага закончилась. На пароходе никакой встречи не устроили. Только Полетаев был непривычно взволнован, когда я появился на пороге его каюты. Поднялся навстречу, обнял и все приговаривал: «Молодцы вы мои, молодцы!» Потом велел старпому, вроде бы специально оказавшемуся тут, дать мне отдохнуть, если я захочу.
Но я не захотел. А Реут не настаивал. У него было кислое, прямо обиженное лицо, когда Полетаев обнимал меня. Капитан на секунду обернулся к старпому и посмотрел победно, будто моим появлением что-то хотел доказать ему. Но, может, это показалось? Вскоре я ушел.
Словом, гибли — спаслись. И все...
Впрочем, и для других так. Говорили, что аварийная комиссия из пароходства не очень придиралась к капитану. Действия Полетаева во все тревожное время посчитали правильными, вредных отклонений в службе со стороны экипажа не обнаружили, проявлений халатности, которые могли вызвать или убыстрить разлом парохода, не нашли. Судно ленд-лизовское, вместо него, поврежденного, американцы тотчас выдали новое, никто не погиб — чего там!