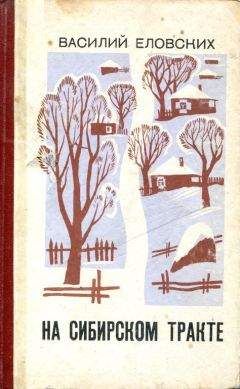Конечно, я ничего не сказал о Сороке, когда мы с Евсеем сидели в неумеренно теплом и тихом кабинете его.
— Ты заметил, Иваныч, какие глаза у этого Шахова?
— Ну?|
— Страшные. В кино шпионов и диверсантов с такими глазами показывают.
— Да уж!.. В кино — артисты... Чего ты!
— И что? Ведь они настоящую жизнь изображают.
— Да зря ты, слушай. Ну какого лешего по глазам определишь.
— Не говори! Глаза — зеркало души, Иваныч. Зеркало, это еще старинными учеными сказано.
— Мутное зеркало-то. Сильно нервный человек еще виден. Взгляд у него, как бы тебе сказать-то, тревожный и болезненный вроде бы. С предмета на предмет перескакивает. Мать у меня была такой. Ну... блудливого и подловатого мужичка по сальным глазкам иногда узнаешь. Они у него поблескивают, как сапоги у хорошего солдата. А шпиона или там вредителя... Хо!!
Евсей понял, видимо, что с «зеркалом души» его не туда повело и перескочил на другое:
— Смотри, сколько страшных случаев. Двое рабочих, Тараканов и Мосягин, ломали станки.
— Но разве можно их сравнивать? Ты чего?
— Да, да, да!.. С Мосягиным, конечно, дело ясное. Туманно с Таракановым.
— С Таракановым?
— С Таракановым.
— Да ты что? — Я старался говорить душевно, будто предо мной сидел наипервейший друг.
— Что?
— Какой он вредитель?
— Постой! Никаких выводов мы пока не делаем. Я хочу только выяснить, станки он ломал?
— Да ведь как ломал?
— Ломал, я спрашиваю?
— Ну, ломал. Только не весь станок, а шестеренки. Деталька маленькая.
— Знаю, знаю. Не так уж маленькая.
— И это ж не нарошно, Ну, можно сказать, халатность или там ротозейство, но уж никак не вредительство.
— Подожди, говорю, насчет вредительства.
— Ведь только на центровых... И только шестеренки. Станки, понимаешь, такие. А на других станках — никогда. Что ты! И надо еще посмотреть, подходит ли тут слово «халатность», хотя я и сам не раз обвинял в этом Тараканова. Все это, знаешь ли, не просто. Совсем не просто. Особенно в оценке действий передового рабочего.
— Вот мы и разберемся.
— Да тут и разбираться нечего. Какой ты!..
— Это тебе кажется, что нечего. И какой я? А? Ну говори! Зятя отстаиваешь?
«Зятя». Слово тяжелее кнута бывает.
Евсей смотрит исподлобья, не мигая, изучающе. Наверное, кажется сам себе проницательным, всевидящим, все понимающим человеком, этаким Шерлоком Холмсом. А где уж!
— Да ты что, Евсей? — улыбаюсь, хоть и не хочется улыбаться.
— Я вам не Евсей! Я для вас товарищ Токарев. В лучшем случае — товарищ Токарев. — Евсей поднял вверх палец, вскочил, громыхнул стулом и забегал по кабинету. — Ваш Тараканов ездил в область. На нас жалуется. Да! Он, видите ли, решил, что новоуральские чекисты действуют незаконно. Ошибаются. Он, Тараканов, не ошибается, а все мы ошибаемся. Мы, видите пи, неправильно арестовали Шахова. Мало ему разговора в области, вчера укатил в Москву. Но там ему почистят мозги. Уж там ему дадут! С Таракановым этим мы еще разберемся. Мы с ним, с голубчиком, раз-бе-рем-ся!
О том, что Василий уехал в Москву, не знал даже я. Но это, в общем, походило на него: работать, так работать, протестовать, так протестовать. Шел напролом. И это не только, точнее, не столько от личной храбрости... Мне думается, Василий был лишен чувства опасности, вообще-то необходимого человеку. Казалось ему: все и всегда будет хорошо. Только хорошо. С другими может быть и плохо, но не с ним. В истории бывало удивительное: квеленький, пугливый, вздрагивающий при свисте пули воин, считавшийся трусоватым, спокойно принимал смерть — расстрел, виселицу. Дивились люди. А храбрец, почитаемый всеми, перед самой смертью вдруг неожиданно впадал в панику, ноги у него подкашивались от страха, он молил врагов о пощаде. И это казалось непонятным. Не хочу сказать, что Василий — трус, нет, вовсе нет, но чувство опасности ему было неведомо. Его избивали (налетали группой, один где осилишь), он не раз тонул, попадал под автомашину и под копыта лошади, а однажды, у всех на виду, был сбит бодливой коровой и долго плевался и матерился от великого стыда и огорчения.
— Двоих рабочих у вас станком прижало, когда они этот станок с грузовика снимали. Один сломал ногу, а другой... — Евсей подскочил к столу, полистал бумажки. — Другой, Носов его фамилия, да — Носов, помер в больнице. Вот! А потом подростка покалечило. И, наконец, убийство профорга, передового стахановца Горбунова. И все это за какие-то полгода. Слишком уж страшная, очень уж, знаешь ли, подозрительная цепочка тянется. Не так ли, товарищ, Белых? А?! Возможно... — Евсей зачем-то понизил голос — Возможно, тут и следы Миропольского. Да! По документам не совсем ясно, кто он, этот Миропольский, из каких он. Да и Шахов избрал кулачку, из лишенцев. А ведь суть одна — зарегистрировался или не зарегистрировался.
«А ведь я слегка робею перед ним». Мысль эта рассердила меня, и я сказал почти сердито:
— Зря ты насчет кулачки. И насчет Миропольского зря.
— Выясним.
— А если из богатых?.. Вон Коровины...
Старик Коровин был до революции купцом. Маленькая лавчонка на рынке. Сам с женой торговал, никого не нанимая. Но все одно эксплуататор. Старик в политику не вдавался, вообще ничего кроме своей лавчонки не знал. А двое его сыновей стали большевиками. Расстреляны белыми. В Новоуральске есть даже улица Коровиных.
— Ты, Белых, революционеров Коровиных не трожь! — Таращил глаза Евсей.
— Да и у Ленина, говорят, отец дворянином был, — не унимался я. Мне почему-то хотелось сейчас возражать Евсею. Возражал неторопливо, спокойно, находя в этом какое-то непонятное удовлетворение. — Дзержинский из шляхтичей. Тоже из дворян, только из польских. И Маркс, и Энгельс, знаешь ли, не из простых. Ты чего это пишешь-то? — встревожился я.
— Записываю, а вы сейчас подпишете.
Смотрел я на него и думал: «Эх, Евсей, Евсей! Славный ты парняга. Только у прокатного стана стоять бы тебе, а не за чекистское сложное дело браться».
Но не сказал этого. Разобидится. А что проку...
Я хорошо знал Евсея. Он мне даже дальним родственником по жене приходился. Мальчишкой прибегал: «Покажи, как змейки делать». Биография у него стопроцентная пролетарская. Очень подходящая биография: все деды и прадеды — рабочие, ни один из родичей не скапустился, на вражью дорогу не повернул. Сам Евсей лет десять прокатчиком был. Хорошим прокатчиком, ничего не скажешь. Старательный, но простоватый и дубоватый. К тому же малограмотен. Видимо, когда принимали его на работу эту, биографию только и просматривали. А надо бы узнать, как он, мил человек, в душах человеческих разбирается, умен ли?
Еще разок ездил я туда. Догадывался, что и других возили. Видно, хотелось Евсею к врагам народа Шахова притянуть.
Как меняется человек, когда наваливаются на него неприятности: в те дни работал я только в цехе, дома — опускались руки. Как во сне. Жена ворчит: «Ступеньки на крыльце прохудились», «В бане кто-то стеколко выбил, вставил бы, лешак тебя дери!». А я будто не слышу. Иду с работы, дивлюсь: «Когда это полуметровые сосульки на крышах появились? Морозина и сосульки». Сказал Кате. Та посмотрела как-то странно: «Дня три таяло. Ты чё?» В кармане одна спичка осталась переломленная. Закуривая, чиркал ее с замиранием сердца... Нервы...
Глянул в зеркало. Батюшки, что со мной?! Совсем старым выгляжу, щеки натянуты, как приводной ремень, выражение губ скорбное — что-то иконописное появилось в лице, самому себе неприятное; еще бы нимб над головой — и святой угодник готов.
Уже перед Новым годом к другому следователю вызвали. Сидит маленький горбоносый человек, волосы черные с синеватым вороньим отливом, глаза проницательные, понимающие. Жесткий, сдержанный. Грамотный. И не русский, это я по говору его понял: слишком уж правильно, слишком уж гладенько говорил, ни одного простецкого рабочего словца. Как по газете шпарил.
Этот, горбоносый, быстро разобрался, все по своим местам расставил, как пешки на доске шашечной, — с толковыми людьми легко.
Позднее я узнал, что Евсея убрали из НКВД и сделали простым милиционером. С треском убрали. Думаю, немалую роль в этом сыграла поездка Василия в Москву.
И вот Шахов в цехе.
— Выпустили? — спрашиваю.
Вид у него помятый, пришибленный. И глаза другие — потухшие, бегающие, уже не так въедаются, что-то нервозное в них. Суетлив стал. Не быстр, как прежде, а суетлив. Не отвечая на мой вопрос, бормочет сердито:
— Черт-те что!..
Мне было жаль Шахова. В январе его перевели в контору завода на неприметную должностишку. Первое, что я услышал оттуда: Шахов расточает женщинам комплименты. Намекали на дон-жуанство, а фактов не приводили и привести не могли, потому что — я в этом уверен — хотел он нравиться не как мужчина. Прилаживался: какая девушка не любит слушать медовые речи. И здесь характер свой выказал, сатана! Главбух завода, баба бывалая, дошлая, выразила эту мысль предельно кратко, пренебрежительно махнув рукой: «А-а! На словах только».