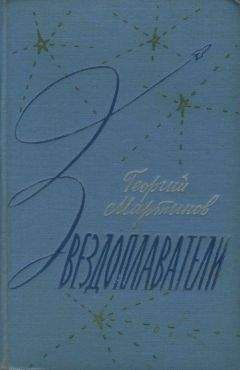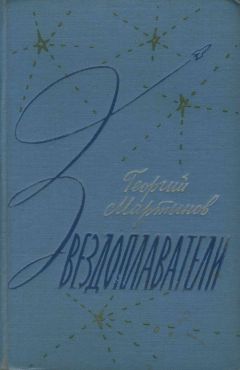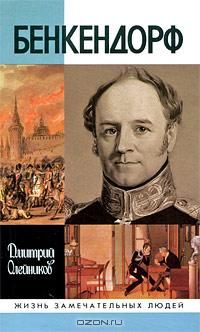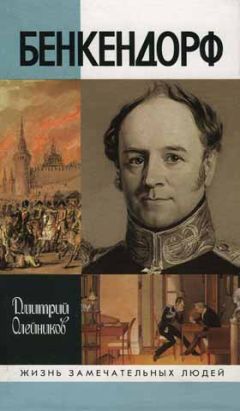В ногах у меня что-то завертелось, очень пушистое и теплое. Кто-то, очевидно по ошибке, лизнул мою руку горячим языком. Боец удивленно вскрикнул: «Дымок!» – и засмеялся. Засмеялись и женщины.
– Прибег, – сказал боец. – Хозяина своего прибег проводить. Вот увидит проводница, она тебе покажет! Нешто можно собаке в вагон!
– По такому случаю можно, – ответил из темноты хриплый голос, и тотчас зажужжал в невидимой руке карманный электрический фонарик с динамкой.
Слабый свет упал на пол, потом на серого пса с виноватыми глазами. Он сидел между ног у бойца и торопливо махал хвостом. Всем видом своим он хотел показать, что понимает, конечно, незаконность своего пребывания в вагоне, но очень просит не выгонять его, а дать попрощаться с хозяином.
– Дымок, друг любезный, – сказал боец, – как это мы тебя не приметили!
– Я его в избе замкнула, – будто оправдываясь, сказала старуха.
– Под дверью протиснулся, – добавила молодая женщина. – Там доска отстает.
– Сколько бежал! – вздохнул, сокрушаясь, боец. – Двенадцать километров! А? На дворе темнота, грязь, дороги вконец развезло. Ишь мокрый весь до костей!
– Животное все понимает, – сказал из глубины вагона бабий голос; – Оно и войну понимает. И, скажем, опасность. У нас в Ненашкине прошлый год немецкие самолеты повадились пролетать, два раза бомбы спускали, убили телку Дуни Балыгиной. Так с тех пор как загудят антихристы, так петухи рысью бегут под стрехи, хоронятся.
– Зверь и тот его ненавидит! – сказал человек с фонариком. – Шерсть на собаках дыбом становится, как заслышат они ихний лет. Вот до чего ненавидят.
– Буде врать-то! – сказала проводница. – Отколь пес разбирает, какой летит: ихний или наш.
– А ты его спроси, отколь он знает, – ответил хриплый голос. – У тебя одно занятие – никому нипочем не верить. Билеты по десять минут в руках вертишь. Все тебе метится, что они фальшивые.
– Пес все может определить, – сказал примирительно боец. – У ихних самолетов гул специальный. С подвывом.
– Сам ты с подвывом! – огрызнулась проводница.
Паровоз неожиданно дернул. Страшно лязгнули буфера, еще страшнее зашипел пар. Девушки с ватной фабрики с визгом бросились к выходу; оказалось, что все они провожали подругу. Женщины торопливо попрощались с бойцом и спрыгнули уже на ходу.
– Дымок! – тревожно кричали они из темноты вслед поезду. – Дымок!
– Дымок! – кричал и боец, стоя на площадке и оглядываясь. Но Дымка нигде не было.
– Пропал пес, скажи на милость! – бормотал смущенно боец, возвращаясь в вагон. – Вот незадача, скажи пожалуйста!
– Да здесь он, дядя Ваня, – раздался из темноты мальчишеский голос. – Схоронился у меня в ногах, весь трясется.
– Это кто говорит? – спросил боец. – Ты, Ленька?
– Я.
– Ленька Кубышкин из Кобыленки? Кузьмы Петровича сын?
– Он самый.
– Дай-ка я около тебя сяду.
Боец протиснулся к мальчику, сел, опустил руку, нащупал дрожащего пса, вытащил его за загривок и посадил к себе на колени.
– Вот, понимаешь, навернулась забота, – сказал боец. – Увязался Дымок, что с ним поделаешь! А женщины мои небось измаялись там на станции, все его кличут. Чего ж теперь будет-то?
– Ничего не будет, – сказала проводница, – кроме того, что я тебя высажу с этой собакой в Кобыленке. Взял моду с собаками в такое время кататься! Билет на нее есть?
– Нету, – сказал боец. – Я ж ее не брал, она сама в вагон влезла, в ногах схоронилась.
– Мне какое дело – ответила проводница, – сама или не сама. Мне давай билет и общее согласие пассажиров на провоз ее в этом вагоне. И справку, что она у тебя здоровая. Ишь моду взял какую, – собаками сейчас займаться.
– Иди ты, знаешь куда! – сказал из темноты хриплый голос. – Бессовестная! По человечеству надо судить. А у тебя заместо ума – тарифные правила!
– Поговори у меня! – угрожающе сказала проводница, но ей не дали окончить.
Вагон зашумел так грозно, что проводница ушла. Она так хлопнула дверью, что старуха, сидевшая у дверей, перекрестилась:
– Исусе Христе! Так ведь и голову отшибить недолго!
– Слыхал я, Ленька, что от отца, от Кузьмы Петровича, писем весь год не было, – сказал, помолчав, боец.
– Не было. Все не пишет.
– А ты не беспокойся. Иной человек и жив и его осколком даже нисколько не царапнуло, а он писем не пишет.
– Обстановка, что ли, не позволяет? – спросил хриплый голос.
– Бывает, обстановка. А бывает, и характер у человека такой.
– Надо быть, нету уже в живых человека, раз он цельный год вестей не подает, – сказала старуха, сидевшая около двери, – Охо-хошеньки!
– Не отучились вы каркать! – рассердился боец. – Вместо разговору всегда у вас, у старых, один карк. То рваную подошву нашла на дороге – к беде! То воробей влетел в избу – опять худо! То лошадь приснилась, – быть, значит, пожару. Выдумки у вас слишком много. Паренек ждет отца, надеется, а ты ему сомненье даешь. С какой это стати, интересно? К чему это такой разговор!
– А я, дядя Ваня, нисколько не беспокоюсь, – тихо сказал мальчик. – Папаня мой жив. Я это сегодня узнал.
– Товарищей его встретил, что ли?
– Нет, не товарищей. Через экран я узнал. Боец уставился на мальчика.
– Через какой экран? Очумел, что ли!
– Да нет, дядя Ваня, честное пионерское- не очумел. Только приехал третьего дня в Кобыленку из Клепиков Валя Лобов и говорит: «Хочешь, Ленька, своего папаню видеть в геройской обстановке? Ежели хочешь, то езжай первым поездом в Клепики, иди в кино и смотри картину „Сталинград“. И увидишь ты в ней своего родителя живого и невредимого». Я и поехал. Пошел в кино. Мальчишки у дверей толкутся, все без билетов – и никого не пускают. Все оттирают и оттирают меня от дверей, а за ними уже звонок звенит. Я и заплакал. От досады на этих мальчишек заплакал. Мальчишки смеются: «Гляди, какой нервный!» Тут я им и объяснил свое положение. Зашумели они: «Чего ж ты молчал, гусь лапчатый! Сеанс уже начинается!» И давай колотить в дверь кулаками. Милиционер выскочил – старенький уже, усатый – и кричит: «Марш отсюдова! Я вас, огольцов, всех позабираю!» А мальчишки вытолкали меня вперед, все кричат, все разом милиционеру рассказывают, зачем я в кино приехал. Милиционер взял меня за пиджачок, втащил в дверь, говорит: «Ну ладно, иди. Только смотри – без обману». А со мной трое мальчишек все-таки влезло. Сел я, смотрю, – и до того мне страшно! И все жду. И вдруг вижу: папаня мой бежит по двору в каске, стреляет, и за ним бегут другие бойцы. И лицо у него так-то суровое, крепкое. И тут я закричал и ничего больше не помню. Будто уснул сразу, а проснулся в комнате у директора кино. Сижу на диване, директор – девушка такая веселая, в ватнике, – меня водой отпаивает, а милиционер стоит рядом и говорит: «Первый случай в моей практике, а стою я в этом кине уже два года». Потом директор велела мне подождать, ушла и, как сеанс окончился, принесла мне кусок пленки с папаней, сказала: «Береги и отпечатай при первой возможности».
– А ну покажь! – сказал боец.
Мальчик вытащил из кармана завернутый в бумагу кусок пленки. Человек с хриплым голосом зажег электрический фонарик и осветил пленку. Боец осторожно развернул ее и посмотрел на свет.
– Беда! – вздохнул он. – Мелкая очень печать, все навыворот! Не разберу. А охота мне Кузьму Петровича посмотреть в сталинградском бою, большая охота.
– Счастье тебе, малый, – сказал человек с хриплым голосом. – Истинное счастье!
– А наши старухи-дуры, – пробормотала старуха, сидевшая у двери, – все на кино ругаются. Мельтешит, говорят, перед глазами и мельтешит!
– Вот те и мельтешит! – сказал боец. – Слыхала, какой случай? За это незнамо кого благодарить надо.
– Уж истинно, благодарить, – согласилась старуха. – За утешение, за то, что отца повидал. Великое дело!
Паровоз засвистел, начал тормозить.
– Кобыленка! – сказал мальчик и встал. – Ну, мне сходить. Вы, дядя Ваня, дайте мне Дымка. Я его завтра к вашим назад отвезу.
– Вот выручил! – радостно сказал боец. – А то душа у меня не на месте. Жаль собаку. Возьми его на руки, держи крепче. И папане обо всем напиши. Привет от меня, от Ивана Гаврюхина. Ну, шельма, прощай!
Боец потрепал собаку по спине, по ушам, потом погладил. Мальчик взял Дымка, спрятал под пальтецо и быстро вышел. Я вышел вслед за ним на открытую площадку. Поезд тронулся. Собака тихо повизгивала у мальчика под полой.
В холодных лужах блестели звезды. Ветер дул из лесов, доносил запах талого льда – должно быть, с лесных озер, где сейчас было черно, жутко, где лед уже растаял у берегов и к полыньям подбегали сторожкой рысцой худые волки, пили жгучую воду, оглядывались, нюхали воздух; из-под осевшего снега пахло мерзлой брусникой, корнями.
Я вошел в вагон и услышал голос бойца: