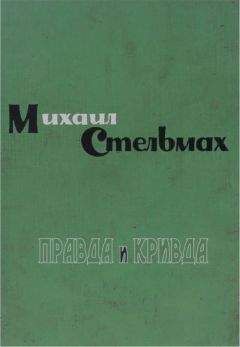Мотря аж остолбенелая от такой перемены:
— Ты куда, Евмен?
— Ой, — скривился старик, — болит все… Пойду к Марку Бессмертному, поговорю с ним немного.
— Как же ты пойдешь, когда пот с тебя аж льется?
— А я его вытру, — покосился на свежее белое полотенце.
— И что ты за человек? Болезни же не вытрешь!
— Не цепляйся, жена, потому что у меня душа ненадолго размякла.
— О чем же ты хочешь говорить с Марком?
— О чем же еще, как не о лошадях. Надо же что-то думать или делать.
— Опять за рыбу деньги… Ты же умирать собрался, — напомнила жена.
— Приду от Марка, тогда уж, наверное, буду умирать. Пусть тебе веселее будет.
Он дунул на свечку, старательно, раз и второй раз, отер полотенцем пот, оделся и нетвердыми шагами, чтобы жена видела, как он ослабел, подался из влажного жилища, но сразу же вернулся.
— Ты чего? Что-то забыл?
Евмен отвел глаза от жены:
— Хочу подушку взять с собой.
— У Марка думаешь полежать или что? — недоверчиво удивилась жена.
— Да нет, — недовольно поморщился мужчина. — Высыплю из нее сено.
— Куда?
— Вот все тебе надо знать! Не на улицу же, а своему карему. Пусть хоть немного ему сеном запахнет! — хмуро бросил мужчина, сунул еще теплую подушку под руку и вяло вышел из землянки, чтобы не слышать глупых увещеваний и укоров.
Вот и кончилось умирание. Мотря молча провела мужа повеселевшими глазами, выглянула в окошко и засмеялась к дедовым сапогам, которые уже упорно мерили землю. Таки несерьезный у нее дед. И после этого вывода снова начала рассматривать лошадок, находить в них черты знакомых людей и удивляться, как оно так получается у ее несерьезного мужа.
В землянке Бессмертных дед Евмен застал только Федька, который, подогнув под себя ноги, громко читал какую-то книгу. Увидев деда, паренек вскочил со скамейки и почтительно замер. Это умилило старика: хоть и война, а таки учтивое дитя растет. Да и возле коней уже умеет ходить, а это тоже что-то значит. Он погладил малолетка по голове, прижал его к себе одной рукой.
— Читаешь, Федя, науку?
— Читаю, — едва заметно улыбнулся мальчонка.
— Ну читай и пей ее, как здоровье. Ничегонько живется у Марка Трофимовича?
— Очень хорошо, деда.
— Поесть дают?
— Дают, — покраснел паренек.
— Значит, расти будешь. А в школе единиц не пасешь?
— Пока что без них обходится, — даже с гордостью ответил Федько.
— Гляди, не хватай такое добро, потому что тогда сам кнутом буду выбивать его из тебя, — погрозил пальцем на мальчика. — Правда, ты смекалистый и должен учиться только на медаль. Заходи ко мне, я тебе какого-нибудь конька подарю, потому что больше не имею чего подарить — скапцанел[28] дед за воину.
— Спасибо.
— Э, Федя, да ты уже разжился на новые сапожки и не хвалишься! — удивился старик.
— Это Марко Трофимович сам пошил мне со своих довоенных сапог. Сам и колодки вырезал. Тоже приказывал, чтобы я единиц не хватал.
— Конечно, мы с ним заодно, хотя и не учились по классам. Не знаешь, где Марко Трофимович?
— Они пошли на конюшню.
— На конюшню? — заинтересовался, обрадовался старик и начал набивать трубку табаком. — Не знаешь зачем?
— Беспокойство погнало их. Здесь они долго с дядей Трымайводою и дедом Гордиенко и сяк, и так прикидывали, чтобы спасти коров и свиней. Надумались, что надо их, пока не появится подножный корм, раздать людям. А с лошадьми дело хуже. Кто их возьмет?
— Так оно, Федя, и выходит: кто больше всего и тяжелее всего работает, о том меньше всего заботятся, — загрустил старик, посасывая угасшую трубку. Через какую-то минуту его снова туманом охватили мысли, он забыл, что в землянке сидит Федько, и начал разговаривать сам с собой: — Ну что его на милость божью придумать? Еде бы им чего-то раздобыть? Хоть бери и на воровскую тропу пускайся!
После этих слов дед в самом деле начал размышлять, нельзя ли где-то украсть сена, вспомнил стожки своего кума Александра, потом удивился, как такое паскудство могло прийти в голову, и вслух возмутился:
— Черте что лезет в голову! Странно и все.
— О чем вы, деда? — с любопытством взглянул на него Федько. — Что-то не выходит?
— Да это такое, никому не нужное, — уклонился от ответа и вздохнул. — Приходи ко мне. — Он еще раз положил руку на голову мальчику, приласкал его, вспомнил своего сына и быстро вышел из землянки. Но и по дороге к нему снова подкралась воровская мысль, и старик хоть и прогонял ее, но и прислушался к ней, как к тайному советнику, что залез внутрь.
— А у кума Александра таки без надобности стоят стожки, — снова сказал вслух. — Что он, квасить или солить их будет?
— О чем вы, деда? — изумленно остановилась возле него Мавра Покритченко.
Старик встал посреди дороги, нехорошим взглядом измерил женщину и недовольно буркнул:
— О любви…
— О какой любви? — сначала удивилась, а потом пришла в ужас от страшной догадки вдова.
— О незаконной. Есть и такая для кое-кого.
Разгневанный, пошел к конюшне, а женщина наклонила голову, и в оттаявшую колею из ее диковатых глаз упали две слезинки.
Более старые кони узнавали Марка, тянулись к нему, потихоньку ржали, бархатными губами касались его рук, плеч, одежды, и в их скорбных проголодавшихся глазах очевидно воскресало прошлое.
— Узнают, Марко, свое лошадиное счастье, когда у них сена было по колени, когда и овсом пахло в желобах, — отозвался с порога дед Евмен, который как раз оказался в конюшне.
— Таки не забыли меня, — растроганный, взволнованный и вместе с тем разгневанный Марко сутулился на костылях и не знал, чем утешить, чем порадовать четвероногих друзей, которые ждали от него и ласки, и еды. Он гладил, обнимал их свободной рукой, не стыдясь, прислонялся к ним лицом и с большой скорбью заглядывал в их глаза. Куда девалась из них доверчивая веселость, унылое всепрощение к человеку, который чаще необходимого хватается за кнут, горячий с кровью и вспышкой огонь или умная, совсем человеческая лукавинка?
Призрак, страшный призрак голода все это высосал из теплых лошадиных глаз, окружил их опухшими веками, и он же безобразными тенями висит над еще живыми костями, ожидая, когда они свалятся с ног. Выскочить бы из этой лошадиной каторги, заплакать, как плакалось в детстве, или хотя бы разнести в щепки костыли по Безбородько и его воровской кодле. В гневе и отчаянии Марко не замечает, как на его веки набегают слезы. Он сейчас бы попрыгал с конюшни, но сбоку снова к нему, беспокоясь, тянется высокий вислогубый конь. Надо и его утешить, хоть рукой.
— И Лорд узнает тебя, — подходит ближе старик, — помнишь его?
— Почему же не помню. Был огонь — не конь.
— На глазах сгорел огонь, только пепел держится под шкурой.
Конь воткнулся Марку в грудь, и мужчине припомнилась давняя пора щедрого разомлевшего лета, когда председатель колхоза забывает, что, кроме работы, на свете бывает и сон. Засыпать приходилось только в дороге, пока телега котилась от одного урочища к другому. Как-то в беззвездный вечер они выехали с дедом Евменом к дальнему полю, где люди круглые сутки работали возле молотилки. Собиралась гроза, продольные молнии разрывали, а поземные огнем отталкивали вверх почерневшее небо. Под их щедрые вспышки и грохот грома он спокойно заснул, а когда проснулся, услышал, как над ним шелестели колосья и дождь. Он еще спросонок не сообразил, что это дед Евмен на скорую руку сделал на телеге шалаш из снопов, еще не понимал, что делается вокруг, когда что-то темное и теплое приблизилось к нему. Он вздрогнул, подался назад и вдруг увидел, как возле крайних снопов на какой-то небольшой, округлой плоскости замерцал раз и второй раз измельчавший корень молнии. И тогда он понял, что это играет молния в лошадином глазу.
— Лорд, это ты? — обрадовался и засмеялся, совсем выходя из сна.
Напуганный громом, конь тихонько заржал, губами нашел тогда Маркову голову, прислонился к ней и снова заржал, а молния и дальше то и дело мерцала в его глазах…
Марко подходит к Лорду, который едва держится на ногах, гладит гриву и с болью смотрит на его большой глаз: неужели в нем навеки отыгрались вспышки молний?
— Дай своему баловню сенца, — дед Евмен из вспоротой наволочки извлекает жменю[29] сена и протягивает Бессмертному.
Марка поражает и дедова наволочка, и пучок сена с привядшим чабрецом, который чем-то напоминает вспышки молнии в лошадином глазу. Он, дрожа, с руки скармливает сено и быстро уходит с конюшни, хотя к нему из уголка еще отзывается доверчивомучительное ржание.
— Подожди, Марко, — настигает его у порога дед Евмен со своей подушкой в руках.
— Сенцо же осталось…
Эти слова, и наволочка, дрожащая в стариковских руках, и бескорыстная любовь деда Евмена, и его сочувствие голодной скотине окончательно режут сердце мужчине.