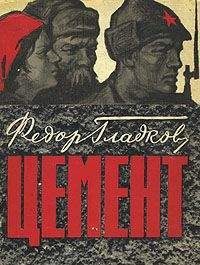Бадьин блеснул широкими зубами и обменялся взглядом о Чибисом.
— Я знаю, как он был разрешен в исполкоме. Там не было известно из твоего доклада о фальшивых цифрах и подставных лицах. Об этом мы поговорим с тобой в другом месте.
Он взял бумагу со стола и быстро пробежал глазами.
— Возьми, товарищ Чумалова. Сейчас же пройди в коммунхоз: пусть сегодня же он отдаст распоряжение об освобождении всех домов и немедленно оборудует их под ясли.
Даша подошла к столу и не взглянула ни на Бадьина, ни на Глеба, а Глеб увидел, что в глазах Бадьина одним коротким мигом вспыхнула пьяная капля. Челюсти Глеба до боли раздавили зубы и тинькнули в ушах.
— Товарищ Бадьин!..
— Ага, наконец-то!.. Где же ты пропадал до сих пор, черт тебя возьми? Ну, докладывай, докладывай, пожалуйста… Ишь как рожу испек: должно быть, здорово жарили…
И дружески улыбался Глебу.
А Глеб стал бок о бок с Громадой перед Бадьиным и угрюмо, с суровой отчужденностью, залпом отбарабанил:
— Товарищ Бадьин, я и член завкома Громада спешно прибыли, чтобы узнать: по чьему распоряжению и на каком основании прекращены работы на заводе? Там — полная дезорганизация и развал. Такого безобразия оставить нельзя. Я бы хотел знать, какая это сволочь развела саботаж и контрреволюцию? Рабочие неспокойны. Такая злостная бесхозяйственность хуже бандитского налета. Вот здесь товарищ Шрамм: пусть он ответит, как мог совнархоз допустить такую уголовщину?
Бадьин опять блеснул зубами в дружеской и странно веселой улыбке.
— Об этом я знаю. Из главцемента получена в совнархозе телеграмма о прекращении работ впредь до выяснения вопроса о целесообразности пуска завода.
— Я знаю, чья это работа, товарищ Бадьин. Но в совнархоз была послана из промбюро строгая директива — принять все меры к организации работ. Там этот вопрос обсуждался, и документы у меня на руках.
Голос у Шрамма был чужой и хриплый.
— Есть промбюро, но есть и главцемент.
Глеб в бешенстве заметался около стола. Щека его дергалась в неудержимой судороге.
— Товарищ прсдисполком, я ставлю вопрос на ребро: так работать нельзя. Пускай Шрамм хоть черта съел, но за такие дела надо дать ему хорошую вздрючку. Это — не шутка, товарищи. Мы еще насчет этого разбоя поговорим… А Шрамм не подходит к рабочему двору. Это — дважды два… Об этом будет доложено окружному комитету. Тут прямая угроза, товарищи, всей нашей хозяйственной политике. Товарищ Бадьин правильно подчеркнул: экономическая контрреволюция… вот! Надо положить этому конец. Дело райлеса — это одна малая болячка. Тут дело похлеще. Надо, товарищи, взять кого следует на аркан. Генерально поднять пыль во всех учреждениях. Довольно валандаться со всей этой белогвардейской шайкой: пора по-настоящему взять ее за жабры. Должен сказать, товарищ Бадьин, что все резолюции экосо и наряды проведены полностью. Завтра рабочие приступают к работам. Мы срываем печати со складов и все берем на учет. И еще заявляю, товарищ Бадьин: мы требуем безоговорочно нового состава заводоуправления. Мы поднимем и Москву, ежели на то пошло.
Он вытащил пачку бумаг и бросил на стол.
— Вот вам все документы. Нас били промбюро, так и мы же бьем этим промбюро.
Лицо у Шрамма было мертвенно-бледно, а глаза тусклы а грязны, как у трупа.
Чибис быстро встал и вышел стремительным шагом, без прежней тяжести в ногах.
Бадьин опять исподлобья взглянул на Шрамма и опять улыбнулся веселой игрой в глазах.
— Ну как, Шрамм? Придется, вероятно, и совнархозу посидеть на одной скамье с райлесом? Картина занятная, поскольку дело принимает крутой оборот.
В коридоре Глеб натолкнулся на Дашу. Она, должно быть, ожидала его. В ее мерцающих глазах дрожал мучительный крик, Она стояла перед ним спокойно, как обычно, и сказала тихо, с надломом:
— Ты вот приехал Глеб, а Нюрочка умерла… Ее уже похоронили, а ты не успел… Сгорела Нюрочка, а тебя не было… Нет больше нашей Нюрочки, Глеб… родной мой!..
В первый момент Глеб почувствовал страшный удар в груди, а потом стало тихо, точно он вдруг оглох. Сразу же похолодело внутри и растаяли ноги, как при падении с высоты. Он не отрывал глаз от Даши и долго не мог выговорить слова.
— Как?.. Да не может же быть!.. Как?.. Нюрочка?.. Да не может же этого быть!.. Даша! Что же это такое?
Даша стояла, опираясь спиной о стену, и Глеб увидел, как она, немая, плакала, задыхаясь и глотая слезы. Они текли по щекам на дрожащий подбородок и падали на грудь. Она не вытирала их и как будто улыбалась от беспомощности и покорности. Рядом, тоже у стены, Громада задыхался от хриплого кашля.
1. «Пускай сердце у нас будет каменное»
Чистка заводской ячейки назначена была по распубликованному расписанию через неделю, шестнадцатого октября, и Сергей ждал этого дня с прежней думающей улыбкой и не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни обычных вопросов, которые мучили его по ночам. Было только одно — удивление перед собою: почему он не забывает ни на миг о дне шестнадцатого октября (помнит о нем даже во сне). Знает, что это некий грозный рубеж в его жизни, — и все же глух душою к этому грядущему событию. Будет ли он исключен или оставлен в партии? Этот вопрос пролетал в мозгу странно легкой волной и потухал. А мозг спокойно, привычно исполнял свою обычную дневную работу и по ночам томился от пережитых впечатлений и неожиданных воспоминаний о былом. Но воспоминания были — как неясные сны: горы и море в солнце, птицы и далекие белопарусники, детские переливы криков, умирающая мать, лукаво улыбающийся отец, который лепетал что-то о стоицизме…
Как обычно, шел Сергей, кудрявый и лысый, с туго набитым портфелем немного сырой, сосредоточенной походкой. Всегда был занят, всегда пунктуально выполнял задания дня. И не было мига, чтобы не помнил о шестнадцатом октября.
Как-то после его доклада о работе политпросвета Жидкий посмотрел на него с ласковой насмешкой и положил ладонь на его пальцы.
— Боишься, Серега? Верно: зададут тебе перцу — держись…
— Почему же? За что? Я не испытываю ничего похожего на боязнь. Это — будто вне меня и меня не касается…
— Ничего, не робей — защитим. Не так страшен черт, как его малюют.
Лухава, который, по обыкновению, сидел на подоконнике, уткнув подбородок в колени, вскинул голову.
— Врешь, Жидкий, ты сам боишься этой чистки. И я боюсь. Ничего не боюсь, а этого боюсь. Очень вероятно, что Сергей будет исключен. Где у тебя сила помешать этому?..
Жидкий раздраженно выпрямился.
— Он не будет исключен. Почему — не ты, не я, а он? По каким признакам? Интеллигент?.. Это — ерунда… Это — не мотив… У нас есть возможности к протесту, если бы это случилось. Работы комиссии идут безобразно — исключают по ничтожным мотивам. За эту неделю исключено уже до сорока процентов ответработников и почти такой же процент рядовых членов. Вот, например, Жук… рабочий… А мотив: склочник и деклассированный элемент…
— Жук?.. Он исключен?..
Сергей вытянулся к Жидкому в изумлении, но сделалось это как-то само собой, и слова Жидкого не трогали его, как что-то далекое и малозначащее.
Лухава необычно спокойно и необычно твердо сказал с официальной небрежностью:
— Комиссия не обязана сообщать тебе факты, и ты не имеешь права вмешиваться в ее работу и критиковать ее методы. Для исключенных есть только один путь — обжалование.
— Пусть так. Но я буду действовать и ни перед чем не остановлюсь. Я дойду до самого ЦКК. Тот, кто чистит, ни черта не понимает в своей работе. Это ведет только к разрушению организации. У нас есть основания к протесту. Я этого дела не оставлю…
Лухава крутнул головой, усмехнулся.
— Осел!.. За это и тебя исключат или переведут, в лучшем случае, на низовую работу.
— Не пугай, сделай милость. Окружком не может быть пассивным зрителем в этом деле. Если мы будем хлопать глазами, нас надо гнать… к черту!..
А в женотделе Поля, похудевшая, с мукой в глазах, не могла удержать судорожной дрожи в руках и лице. Даша сидела поодаль за столом и писала. Она не видела Сергея, не видела Меховой — какое ей дело до того, о чем они будут говорить и волноваться? В последние дни Поля часто видела ее с заплаканными глазами.
Мехова взмахом руки позвала Сергея и указала на стул против себя.
Она отвернулась и вздохнула.
— Сергей, не поможешь ли ты мне разобраться во всем том, что происходит сейчас? Я окончательно обалдела, Даша совсем перестает меня понимать: она стала очень груба и не может говорить со мной, как прежде. Я чувствую, что я буду исключена из партии, Сергей…
Даша молчала — не слышала, что сказала Поля.
Сергей тоже молчал: не знал, что сказать. Хотелось мягко коснуться ее души, а слов, нужных, сердечных, не находил. И о себе хотелось сказать что-то очень простое и очень значительное, и тоже не было нужных и важных слов.