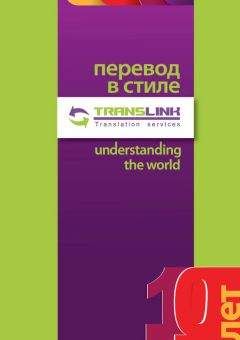— Какой идиотизм? — с улыбкой переспросил Андрей.
Длугач покосился на Демида Плахотина, безнадежно махнул рукой:
— Обыкновенный, то есть самая настоящая дурость.
— А именно?
— В партийной организации у нас нет ни одной женщины. Уж я их уговаривал, разъяснительную работу провел, на сознательность ихнюю надеялся — все это как горохом об стенку. Свою жинку Лизавету года два уламывал — ни в какую. Я, говорит, малограмотный человек, и потому не морочь мне голову…
И Длугач с Плахотиным и Настасья Мартыновна за вечер успели рассказать Андрею все огнищанские новости: кто из стариков умер за последние годы, кто из молодых покинул деревню и отправился искать счастья в дальние края, кто на ком женился и кто успел построить новую избу.
Разошлись поздно. Андрей проводил гостей до калитки, а сам долго стоял, запахнув отцовский полушубок и доглядывая на тусклые огоньки внизу. «Видно, на посиделках женихаются», — с тихой грустью подумал он. И он вспомнил давние посиделки у тетки Лукии, и румяную, круглолицую Таню Терпужную, которая когда-то нравилась ему, и застенчивую лесникову дочку Улю Букрееву, и парней — товарищей отроческих лет, и веселые колядки и щедровки в долгие зимние ночи. Вспомнилось ему все, что за десять лет жизни — уже безвозвратно минувшей — в этой неприметной деревушке было пережито им, Андреем Ставровым, и теперь показалось ему сном.
Он не заметил, как подошла и обняла его сзади Каля. Настроение брата было понятно ей. Она прижалась щекой к его плечу, сказала ласково:
— Молодость вспоминаешь, Андрюша? Она не вернется. Есть такая песня. Помнишь? А Таню свою помнишь? Таня давно замуж вышла за Ваську Букреева, он ее бьет смертным боем. У нее трое детей. Плачет теперь, бедняга. Я ее видела. Она привет тебе передавала, расспрашивала, как ты живешь.
— А как ты живешь, рыжая Кизя? — сказал Андрей, обнимая сестру. — Как твой Гоша? Не лупцует тебя?
То, что он вспомнил детскую дразнилку и назвал Кизей, растрогало ее. Скрывая слезы, она легонько ударила брата по щеке.
— Ты что, с ума сошел? Гоша у меня хороший. Он с утра до вечера возится с лошадьми и коровами, а придет домой — книжки по ветеринарии читает. Мне эти книжки уже девать некуда.
— Ладно, Каля, пошли спать, — сказал Андрей, — а то мы тут со своими воспоминаниями до рассвета простоим…
Ночью пошел снег. Да такой густой… Ложился без ветра, устилая землю ровным белым ковром, сугробами придавил соломенные крыши огнищанских изб, засыпал протоптанные людьми тропы. Утром Андрей вышел и зажмурился от слепящей глаза белизны. С вершины холма видна была вся деревня. Внизу, у колодца, стояли две закутанные платками женщины. Возле них, восторженно взлаивая, разбрасывая снег, носился щенок. По дороге шел человек с палкой. Он глянул на Андрея из-под лохматой шапки, стряхнул снег с вислых бровей, сказал, ощерив выщербленные зубы:
— Не узнаешь? Я Касьян Плахотин. Когда-то на посиделках вместе с тобою, веселились. Теперича вот при должности состою. Вызвали меня прошлый год в сельсовет, и там один приезжий говорит: хоть ты, говорит, Касьян, трошки придурковат, а буквы навроде знаешь, так вот, говорит, назначаем мы тебя начальником, будешь письма гражданам разносить.
Он порылся в потертой сумке, перебрал, слюнявя пальцы, конверты, выбрал один, протянул Андрею, сказал робко:
— Там на конверте марочки красивые, а написано на них не по-нашему. Ты отклей марочки. Слышь, Митрич? Отклей и подаруй мне, я их в тетрадку собираю.
Андрей оторвал от конверта кусок вместе с марками, отдал Касьяну:
— Что ж, собирай марочки… Отклеишь сам.
Письмо было из Парижа. От Романа. Возле постели Дмитрия Даниловича тотчас же собрались все. Еще не услышав ни одной строчки, Настасья Мартыновна заплакала.
Роман писал:
«Родные огнищане! По возвращении домой я подробно расскажу вам, что мне довелось испытать. В письме этого всего не расскажешь. Вместе с тысячами испанских беженцев я шел через горы к французской границе. По решению треклятого Комитета по невмешательству все наши добровольцы должны были покинуть Испанию. Мне пришлось задержаться, так как недавно мой старший товарищ Яков Степанович Ермаков был убит, а я был ранен и находился в госпитале. Только вы не беспокойтесь, сейчас я вполне здоров. Трудно рассказать обо всем, что нам пришлось испытать на границе. Французские офицеры и солдаты, уж наверное не без ведома своих властей, отбирали у беженцев из Испании не только оружие, но и все, что им нравилось. Потом этих усталых, голодных людей, среди которых было много раненых, больных, стариков, женщин и детей, загнали в лагерь за колючую проволоку, где они и сейчас томятся.
Мне удалось избежать этой участи. Сейчас я нахожусь в Париже. Скоро выеду домой, но не один, а вместе с Лесей. Леся Лелик — мой боевой друг, моя жена, которую я очень люблю и уверен, что вы все тоже ее полюбите…»
Заметив, что Настасья Мартыновна всхлипывает, Дмитрий Данилович сказал, с трудом ворочая непослушный язык:
— Чего ж ты ревешь? В-возвращается н-наш Роман. И д-даже не один. Р-радоваться надо, а ты нюни распустила.
Все наперебой стали говорить о Романе, гадали о том, какую жену нашел он в Испании, как она выглядит, где они будут жить и где работать. Андрей радовался вместе со всеми. Он любил неугомонного младшего брата и, хотя, бывало, поругивал его за бесшабашность, втайне восхищался открытым, душевным характером Романа и очень по нему скучал.
— Надо, чтобы Роман и ко мне в Дятловскую заехал, — сказал Андрей матери, — он ведь посвободнее меня будет.
— А как же, Андрюша, обязательно заедет, — отозвалась Настасья Мартыновна и с испугом спросила: — Разве ты уже собираешься в свою Дятловскую? Подождал бы Ромашу, отдохнул…
— Нет, надо ехать, — сказал Андрей. — Еще два дня побуду и, если отцу станет лучше, поеду. У меня в совхозе неотложные дела…
Последние три дня Андрей бродил по Огнищанке с Николаем Турчаком. Оба они удивлялись тому, что в деревне и на хуторах почти не осталось их сверстников: девчата повыходили замуж куда-то на сторону, а парни подались в города, работали на заводах, на шахтах.
Вечерами, возвращаясь домой, Андрей часами сидел с Дмитрием Даниловичем, рассказывал ему о Дятловском совхозе, о директоре Ермолаеве, о том, какой огромный фруктовый сад насадили дятловцы и как много пришлось поработать, чтобы расчистить площадь для посадки деревьев.
Дмитрий Данилович с интересом слушал сына, одобрительно покашливал, советовал обязательно приобрести хорошую пасеку, а ульи расположить по всему саду.
— Для сада и огорода пчелы — первые помощники, — говорил Дмитрий Данилович. — Они не только дадут вам мед, но и увеличат урожай плодов и овощей. Когда-то у моего отца, а твоего деда Данилы Ставрова были свои ульи, десятка два. Тебя тогда еще на свете не было, а я совсем мальчонкой был. Помню, очень любил смотреть за пчелами. Сидишь, бывало, на леваде, кругом сады цветут, и так все пахнет теплой весной и медом, а работяги пчелы жужжат с утра до вечера…
Андрей заметил, что отцу стало легче, что разговор у него стал более понятным, и вдруг, слушая Дмитрия Даниловича, заскучал по Дятловской, по молодому саду, по всему, с чем уже успел сжиться в донской станице на острове. Он живо представил домишко возле церкви, Федосью Филипповну, будто наяву увидел керосиновую лампу в горенке, склоненную над книгой русую голову Наташи, почуял свежий задах внесенного с мороза постиранного белья и запах дымка из натопленной русской печи.
«А как там наш сад? — подумал он. — Не пожгли ли морозы слабые еще яблони, не погрызли ли мыши и зайцы кору? Следит ли за этим Егор Иванович?»
Думая так, Андрей поймал себя на мысли, что при всей своей привязанности к Огнищанке, к отцу и матери ему уже стало скучно здесь, что ему хочется побыстрее уехать туда, где его ждет работа, за которую он, агроном Ставров, отвечает и которую любит.
— Собери-ка мне, мать, в дорогу харчишки, — сказал он. — Завтра попрошу Демида Плахотина дать мне лошадей до Ржанска и буду двигать. Хватит бездельничать, пора и честь знать.
Перед вечером, накануне отъезда, Андрей решил сходить на кладбище, поклониться могиле деда. Он хорошо помнил пасмурный зимний день в тот голодный год, когда хоронили старого Ставрова и несли гроб, утопая в снежных сугробах. Вокруг вырытой ямы молча стояли тогда голодные люди, и такой же голодный священник, отпевая покойника, говорил о многих смертях и о конце грешного, погрязшего в кровавых распрях мира.
Сейчас на кладбище было тихо. Внизу под обрывом холодно блестел скованный льдом пруд. Над засыпанной снегом могилой деда стоял тот же слегка покосившийся крест с железным кольцом. На кресте еле можно было разобрать выжженные буквы.