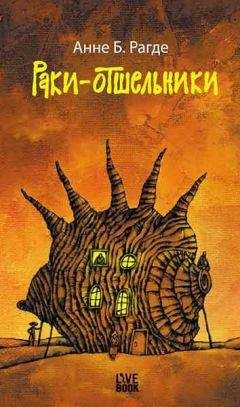— Кажется, за лесопосадкой пашут? — сказала Елена, останавливая линейку.
— Свернем, посмотрим? — предложил Засядьволк, дергая вожжами и съезжая с дороги. — Тут недалеко мои трактористы.
За лесопосадкой приглушенно рокотал мотор. На свежих черных отвалах земли лежал желтый свет фар. Елена крикнула в темноту:
— Эй, кто там?
Но никто не ответил. Засядьволк спрыгнул с двуколки, пересек луч, словно разорвал финишную ленту, пристально всмотрелся в ночь. Луна не светила, было темно, хоть глаз выколи.
— Наверно, перекур. На другом гоне еще трактор. Один пашет всвал, другой вразвал.
Елена подошла к бригадиру:
— А как зябь?
— Дождя бы. Земля глыбистая.
Они зашагали по вспаханному полю. Глыб попадалось не так уж много. К трактору помимо плуга был прицеплен металлический каток-ежик и борона с бревном. Они и разбивали комья, выравнивали пашню. По всему видно, добросовестно работал тракторист.
— Кто тут пашет? — спросила Елена.
— Пантелеев. Гвоздей у вас просил для хаты. Второй год строится.
— Будут гвозди. Пусть Пантелеев немного подождет, — уверенно сказала Елена и подумала: «Сама съезжу в город, а достану гвоздей!»
— Печенку проел мне с этими гвоздями, да и рассудить: зима не за горами, а хата недостроенная.
— Да, дождя не мешало бы, — сказала Елена, останавливаясь на краю пахоты. Дальше шло не то жнивье, не то толока, трудно было разобрать в темноте.
— Может, перекусим? — вдруг предложил Засядьволк и повернул к двуколке. — Небось протрусило в дороге. У меня с собой кое-что прихвачено.
— Нет, нет, спасибо.
— Давайте за компанию. Дочка тут мне наготовила хабур-чабур. — Он полез в ящик, достал из-под сиденья узелок. В нем оказались яйца всмятку, сало, пара луковиц, горбушка домашнего хлеба — обычная крестьянская еда. Отказаться было неудобно, да к тому же Елена проголодалась. Когда они поужинали, Засядьволк стряхнул на землю крошки, сунул в карман платок, сказал с улыбкой:
— Спасибо, что не побрезговали.
— Что вы! Вам спасибо.
— Вижу, не такая вы, как прежние председатели. Те все на «Волгах» мотались, даже здороваться забывали.
— Подождите! Вот отремонтирую машину, не придется вместе ужинать.
— Шутите, Елена Павловна. Верьте мне, я раз взгляну на человека и уже вижу, чем он дышит… Вот Рубцов нехороший, скользкий человек. А Василий Никандрович Бородин деловой, зря не нашумит.
По тому, как Засядьволк просто, по имени и отчеству назвал секретаря райкома, Елена заключила, что он близко его знает, даже, возможно, родственник ему, и спросила об этом.
— Василий мальчишкой бегал ко мне во двор посмотреть, как я мотоцикл делаю. Я эту машину собрал, можно сказать, из хлама. В те годы прокатить парню на мотоцикле по хутору все равно, что сейчас на собственной «Волге».
Елене хотелось побольше узнать о Бородине, а расспрашивать почему-то было неудобно, словно Засядьволк и впрямь запросто мог разгадать ее сокровенные мысли. Он сразу стал ей близким человеком. Люди, которые хорошо отзывались о секретаре, не могли быть дурными, потому что сама Елена считала Бородина добрым, отзывчивым, душевным. Она лишь боялась, что деловые встречи упростят их отношения, чувства уступят место разуму.
— А за бугром чей трактор? — спросила Елена, прислушиваясь к отдаленному рокоту.
— Мельникова.
— Вот что. Завтра в строительной бригаде освобождаются два «натика», я их к вам направлю.
— Очень хорошо, Елена Павловна! — радостно отозвался Засядьволк. — Тогда за неделю поднимем зябь… Помню, отец на волах пахал. Весною выедешь в степь, посмотришь, сколько пахать, сколько исходить нужно взад-вперед, — руки опускаются. Отец, бывало, говорит: «Не пашется, а ты все равно паши, паши. Втянешься— легко станет». И верно. Походишь, разомнешься и уже думаешь: «Одолею! Еще столько будет— одолею». Не беспокойтесь, Елена Павловна, поднимем зябь!
Елена удивленно посмотрела на Засядьволка, словно ей напомнили о чем-то важном, долго не приходившем на ум. «Паши, паши, Елена, втянешься — легче станет», — сказала она сама себе, и то, что еще недавно представлялось трудным, неразрешимым, теперь выглядело простым и доступным. На прощанье она пожала загрубевшую, шершавую руку бригадира, как не жала до сих пор никому.
По небу ползли тучи, изредка освещаемые дальними зарницами. Пахло сыростью, прелым листом. Набегал ветерок, и в лесопосадке беспокойно шелестели деревья, словно собираясь в какое-то дальнее путешествие.
— Долго трактористы перекуривают. Пойду к ним, — сказал Засядьволк, прислушиваясь к бродившей, как вино, темноте, и тяжело зашагал по вспаханному полю, довольный тем, что поужинал вместе с председателем.
Перед тем как упасть снегу, было зябко, ветрено. И даже солнце, иногда пробиваясь сквозь плотные облака, светило холодно и как-то бесстрастно. Иву с обеих сторон стиснула белесая кромка, и студеные волны набрасывались на нее, как голодные. В облетевшей рощице голые тополя стыдливо жались друг к другу, дрожа от холода. Сухая смерзшаяся трава клочьями торчала по пойме среди кустов краснотала. И лишь кое-где еще алели огоньки шиповника, напоминая о недавнем лете.
Ночью пошел снег…
Двенадцатый час — в селе время позднее и глухое, даже в райцентре. Бородин засиделся в кабинете с разными отчетами и справками, время от времени поглядывая в окно. Широкая полоса света падала на быстро белевшую дорогу. Сторож в тулупе до пят и длинными, до колен, рукавами, похожий на Деда-Мороза, вошел в этот свет и стал жестикулировать, покачивать головой и поднимать глаза к небу, видно, журил секретаря, не знавшего покоя и ночью.
Бородин резанул ладонью по шее, показывая, как загружен работой, но все-таки отложил бумаги. Он подумал, что надо обязательно съездить в хутор Таврический, посмотреть самому, как там идут дела у молодого председателя.
Вслед за снегом ударили морозы с жгучим степным ветерком, только успевай отворачивать лицо. Ива наглухо покрылась льдом. Ветры смели снег к берегам, и лед лежал чистый, ровный, с хорошо видными пузырями воздуха, наплывами наслуда, трещинами по торцу и толщиной на полметра. Рабочие сельпо начали пилить лед, и мальчишки вертелись возле них, наблюдая, как они захватывали железными крюками квадратные прозрачно-синие плиты, плюхавшиеся в воде, точно пудовые рыбины, оттаскивали к берегу и там складывали в бурты, засыпали опилками, накрывали соломой.
— Что вы тут каток устроили? Захотели раков половить на дне? — кричали на мальчишек рабочие, махая железными крюками.
Очутиться подо льдом — жутко подумать. На середине реки, в темном проеме полыньи, глубина казалась бездонной, мертвой, и мальчишки, растопырив полы пальтишек, как паруса, подхваченные ветром, скользили на коньках дальше, дальше по реке, в неизведанные места, пропадая за поворотом. А вечером усталые, но переполненные впечатлениями, с заломленными набекрень шапками, гуськом возвращались домой. И, чтобы укрыться от встречного ветра, прижимались к берегу, поближе к камышам.
Хутор издали выглядел погребенным в снегу. Искрился воздух. Дымчатый иней густо покрывал деревья, нежно-розовый на заходе солнца и словно подсиненный в сумерках. Необычно сказочно делалось вокруг.
Озябшие, голодные мальчишки спешили домой, не снимая коньков, прыгая по кочкам, и у каждого было только одно на уме — побыстрей добраться до стола с горбушкой хлеба и дымящимся в тарелке огненным борщом.
По обочине дороги, которая вела к хутору, на оголенной от снега стороне зелено блестела сквозь наледь, сахаристо похрустывала под ногами озимь-падалица. Ветерок к вечеру стихал, и тишина сонно стыла на морозе. Тревоги, волнения отдалялись, теряли значение. Хотелось только дышать колким воздухом, бодро шагать по дороге, сознавая с радостью, что живешь, дышишь, ходишь… День не успевал разгореться, как на-ступали сумерки. Ночь была глухая, длинная, с бесконечными, как вязанье, снами, бормотаньем, вздохами, тюрлюканьем сверчка в русской печи. Пришла глубокая зима, и домашний очаг в эту пору был особенно желанным.
Еще затемно в доме Чопа засветились покрытые махровым инеем окна. Захлопали двери, выпуская клубы пара, как из бани. Тускло, сквозь наледь квадратного оконца забрезжил огонек в летнице, куда бегала из хаты Варвара, наскоро повязанная шерстяным платком, непричесанная, в шубе на нижнюю рубашку и валенках на босу ногу. То с грохочущей вываркой, то с увесистым ведерным чугуном, то с охапкой хвороста она неловко протискивалась в двери летницы, и в предутреннюю, еще густую темень повалил дым, будто из трубы поднялся призрак. Варвара носила в летницу воду, била в сарае уголь. Вода, выплескиваясь из выварки на раскаленные конфорки, брызгала, шипела, словно Варвара над чем-то колдовала возле печки.