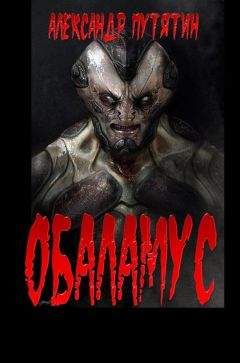— Как и при мне в армии было. Так, так. Значит, два месяца долой, да пока привезли тебя, чтобы немец не достал, поди полмесяца прошло? Али больше?
— Для чего это тебе все?
— Да выходит, ты и воевал-то всего ничего. С первого дня — так и то месяц с днями всего. А ты ведь вроде не на границе служил, а? А одежа-то немного поношена, немного. Я ведь солдатское-то поносил, знаю, что вхорошую-то в окопах поваляешься, так в неделю живо вид потеряешь. Одежда-то полиняет.
Теперь он глядел на Василия уже с нескрываемой насмешкой. Все переглядывались, и, подогретый этим, Василий вспыхнул.
— Так ты хошь сказать, что я все вру! — придвинувшись к старику, крикнул он.
— Ну уж чего сразу так-то, — усмехнулся старик. — Просто интересно: сам видел или тоже от кого слышал? Вот что.
— Так это что же, по-твоему, выходит, мы и не дрались вовсе? Нате, мол, берите все, нам не нужно! Так, что ли? — оскорбленно закричал Василий.
— А ты не пыли, не пыли. Мне глаза засыпать трудно, — спокойно ответил старик. — Как два человека дерутся по-настоящему, ни у одного без шишек не обходится. А уж во зло войдешь, так шишек на себе не считаешь, норовишь одно: как бы супротивника своего получше разукрасить? Это всякий знает. А ты только шишки на себе считаешь. Этак ведь со стороны глядят да приговаривают: вон он ему как дал, а тот-то как дал! Чего-то у тебя все вяжется плохо. Вон на них вот, — кивнул он на женщин, — верно, страху нагнал. Да это дело нехитрое, баб напугать. Настращал их, бедных, да и так уж напуганных, героем себя выказал и довольнешенек, вижу. Али теперь только этому и учат в армии-то, а? — он прямо глядел на Василия, ожидал ответа.
Василий молчал. Степанида же, обиженная за сына, закричала:
— А знаешь много, так нечего и спрашивать! Нечего и ходить да срамить!
— Ну, уважили, спасибо! — оскорбился старик и, встав, сразу пошел вон. Обижать его никто не смел, и слова Степаниды неприятно подействовали на всех. Все повалили вон.
— Воевал, видать…
— Вишь как взъелся, когда правду вызнать захотели.
Разговоры доносились до старика, и он облегченно подумал: «Ну и ладно, и хорошо».
Василий спохватился, видно, опомнился и прямо в гимнастерке догнал его на улице. А может, совесть заела.
— Извини, дедушка Иван, — став перед ним, заговорил он. — Но верно, страсть что делается! С самолета за одним человеком гоняются и некуда деться. А у нас было и воевать нечем. Честно!
Старик обернулся. Никого рядом не было.
— А хоть бы и так: чего людей суматошить еще? И так тошно всем, да еще ты явился душу рвать…
Василий, опустив голову, молчал.
Не нами сказано: ветер кудри не чешет, а горе душу не тешит. Отчаяние овладело стариком, когда остался один.
«Что же будет-то? Что будет? — думал он. — Неужто обессилели совсем? Неужто все так же вот в армии руки уронили? Что же будет-то?..»
Чувство горести охватило его. Это чувство было сильней того, что он переживал раньше. Сильней какою-то безысходностью, вкравшейся в сердце после встречи с Василием. Когда уснул, ему приснилось, что кто-то огромный и страшный навалился на него и душит, душит… Он отбивался от него, но сил не хватало оборониться, и ужас овладел им. Когда очнулся, Александра стояла рядом и перепуганно спрашивала:
— Что с тобой?
— А что? — тяжело дыша спросил он.
— Кричал больно страшно.
— Мерещилось не поймешь и что…
Когда человека в ногу укусит змея, опухоль ползет по телу выше и выше. Когда напухли ноги, хоть и больно, и тошно, и тяжело, но еще вопрос о смерти не стоит. Если и выше опухоль пошла, все есть надежда, что она пойдет на убыль — не наступит самого страшного. Но когда болезнь подбирается к сердцу — страшно! Тут уж спасти может только сам организм, лекарства много не сделают.
Вражье нашествие подкатывалось к самому сердцу страны, и ощущения этого нельзя было унять, как ни крепись.
Александра уснула снова, а он больше не мог спать. Он молился так, как молился много-много лет назад, когда вера еще не загнила в его душе.
«Господи! — вкладывая в это слово все свои чувства, все надежды, все желания, шептал он. — Дай им силу, помоги им, господи! — Он молился сейчас не за себя, не за внуков, не за дочь, не за сноху. Он молился за сына, за зятя, за внука Федю, тоже бывшего в армии, и за все воинство наше. — Укрепи души их, господи! Сделай твердой их руку!»
7
В поле перед работой или у костра, в минуты короткого отдыха, бабы обсуждали дела, хлопоты, заботы, тревоги и радости. Радость была одна — письма. Их приносили сюда, в поле, и читали подругам, родным, а часто и всем… Как же притаить радость в себе, хочется ведь, чтобы и за тебя порадовались. В письмах чаще всего было одно и то же: наказы беречь ребятишек и себя, просьбы писать подробней, как живется, советы по хозяйству, ну и поклоны всем, конечно. Но в каждом почти письме, всего несколькими словами (письма чаще были коротенькими, сбивчивыми) высказывалось такое, что примолкали люди. Да и письма, нередко, долго путались где-то, и кто его знает, где теперь был сын или муж и что е ним?.. Так что трудно было подчас смерить: чего больше приносили эти письма — радости или тревоги?
«…А мы идем, а хлебище-то какой горит везде, и дома горят! Глядеть мочи нету!» — писал один. «…Тут у нас баб, детишек с самолета побило вчера, так не знаю и сколько…» — рассказывалось в другом письме.
«…Как из города уходили, дым вполнеба, а по ночам видим, как полыхает все. Что добра гибнет, и не выскажешь…».
«…Мы-то что, а бабы с детьми на руках, да кто в чем идут, а грязь ведь, и холодно…» — писалось в третьем и четвертом.
И это горе и стон самой земли родной рвали душу.
Деревня стояла в стороне от больших дорог, по которым катились людские потоки и с запада на восток, и с востока на запад. Но хотя война шла где-то и не близко еще, хотя в стороне текли массы людей, слухи разные, не поймешь откуда и взявшись, постоянно будоражили людей. Вроде никто и не уезжал, и не уходил в иной день, а глянь, уж кто-нибудь стрекочет, будто где-то немца сильно побили, или, наоборот, — наших побили, или — хоть начальство и не говорит ничего, а готовятся наши в лес уходить, или такие несуразности, что и слушать тошно. Так-то вот однажды и принесло слух, что будто бы один мужик то ли сам ездил, то ли другой кто, да ему сказал, что верстах в восьмидесяти отсюда слыхали орудийную стрельбу. Старик прикрикнул на рассказывавшую эго взволнованную женщину:
— Не мели! Мало ли кто что булькнет!
Но сам тоже заволновался и на другой день пошел в сельсовет. Александре сказал, что пойдет поглядеть, целы ли напиленные в лесу, по весне, дрова и не пробивает ли дождем стожок сена, накошенный корове на зиму. Не хотел, чтобы хоть одна живая душа знала, куда и зачем он идет. Шел лесом, прямиком, таясь, чтобы никому не попасться на глаза. Остережешься, говорят, не обожжешься. И к сельсовету он не подошел, а подкрался задворками, осторожно заглянул в окно: нет ли кого? — и, только убедившись, что сельсоветская ожидалка была пуста, поскорей юркнул в сени.
«Вот как все хорошо вышло!» — удовлетворенно подумал он, подходя к столу секретарши.
Здравствуй! — с обычным поклоном проговорил он. — Мне бы надобно Павла Иваныча повидать.
— Здравствуйте, дедушка! А Павла Ивановича сегодня повидать нельзя, — ответила секретарша.
— Это отчего же?
— А видели объявление на дверях?
— Бумагу-то эту? Как же. Разве слепой не увидит, вон ведь она какая. Только ведь я чтец-то не очень.
— А там написано, что сегодня, завтра и послезавтра приема не будет.
«Ишь ты, шустрая какая!» — изумился старик на быструю, без запиночки, речь секретарши, пристальней посмотрев на нее. Глаза карие, худощавая, подвижная. Так это у нее ловко поворачивалась бумага в руках, пока говорила с ним.
«Чья же это такая? — подумал он. — Вроде чего-то и знакомое есть, а чья и не вспомнишь».
— Ты чья же будешь? — не удержавшись, спросил он.
— А что? — все разбирая и сортируя бумаги, спросила она таким тоном, который показывал, что никакие уловки не помогут получить свидание с председателем. Он сразу понял ее намек и обиделся.
— Чего уж так-то? Я ведь просто из интересу. Думаю, и знакомое что-то есть, и вроде не наша.
— Из Афонина я, Климовых.
— Это каких Же? У вас ведь, помнится, шестеро Климовых-то.
— Павла Николаевича Климова.
— Так-так-так! — удивленно и обрадованно воскликнул он, с широкою улыбкой глядя на нее. — То-то, я гляжу, знакомое что-то. Я ведь с дедом твоим, покойником, в службе вместе был. Знавал хорошо и бабушку твою, покойницу. То-то, думаю, знакомое что-то. Теперь дома-то сидишь — молодых и не знаешь всех. А ты, значит, тут работаешь. Хорошее дело.
Он так обрадовался этому открытию, так был откровенен, что секретарша уже чувствовала, что отказать не сможет.