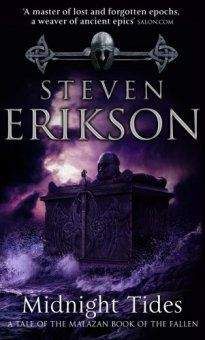Рудаев снова принялся зачитывать цифры. Его впервые видели таким. Очень решительным, знающим себе цену, неустрашимым.
Наконец, ко всеобщему облегчению, он замолк. Достал из кармана папиросу, закурил и спокойно опустился в кресло.
Любопытная картина предстала глазам Лагутиной. У Троилина схлынула краска с лица, оно помягчело, подобрело, у Даниленко исчезла бледность. Оба пришли в норму. Вряд ли предполагал Рудаев, всячески растягивая время, что делает именно то, что нужно. Получилось это у него непроизвольно, но получилось кстати.
Все взгляды устремились на Даниленко — ждали его решения. Строителей мог удовлетворить только пуск печи, причем до Нового года. Для цеховиков такой исход был смерти подобен. Они сидели как на иголках, переглядывались, перешептывались. В этом калейдоскопе лиц, по-разному выражавших личную заинтересованность, Даниленко заметил одно лицо, не выдававшее смятения, — лицо Лагутиной. Она, казалось, не была ничем обеспокоена. «А разве не так? — подумал он. — Любой исход ничего не меняет в ее жизни. — И тут же опроверг себя. — Э, нет, она здесь далеко не объективный судья». Перевел взгляд на Рудаева. Тот выпускал ленивый дымок и сидел такой безучастный, расслабленный, будто предвидел все наперед и ни от кого ничего путного не ждал.
Молчали. Молчал и Троилин. Хотел было спросить, какие будут предложения, но вовремя спохватился. Это не общее собрание, где вопросы решаются голосованием.
Нежданно-негаданно поднялся Женя Сенин.
— Если вас, товарищ секретарь обкома, хоть в какой-то мере интересует, что думает на этот счет технический совет цеха, — он кашлянул в кулак и продолжал басовитее, громче, — то я, как его председатель, заявляю, опираясь на общее мнение: пускать печь в таких условиях нельзя.
Даниленко высоко задрал подвижную левую бровь, отчего правый глаз его совсем прикрылся, посмотрел на молодого сталевара, как на мальчишку, который лезет в драку взрослых, и больше из вежливости, чем из уважения к его сану, спросил:
— А это что за орган такой? Консультативный или решающий?
— Консультативный, — сказал Сенин.
— Решающий, — сказал Рудаев. Даниленко повернулся к Троилину.
— Хорошего начальника подобрали. Мало того, что сам против пуска, так еще весь коллектив настроил.
За Рудаева тотчас вступился Катрич.
— Никто никого не настраивал. Всякому человеку, не лишенному здравого смысла, ясно: пустить новую печь — значит, заведомо идти на аварию.
— Выходит, вы тут все со здравым смыслом, а мы лишены оного! — вскипел Даниленко.
— Дело не в здравом смысле, дело в разнополюсности интересов, — тотчас нашелся Сенин. — Мы думаем о создании безаварийной обстановки в цехе и о качестве металла, а строителям на это начхать. Им важно ссунуть рапортоёмкий объект. Вы, Николай Александрович, сами видели, какая тут работа, и понимаете, какое может быть качество.
Эти слова, сказанные без всякого пережима, вдруг поколебали чашу весов. И все же никто не ожидал того решения, к какому пришел Даниленко.
— Эх, что поделаешь. Начальник есть начальник. Считает, что печь пускать нельзя, — значит, пускать не будем, — как-то по-домашнему, легко и бесхитростно, произнёс он, чем немало озадачил присутствующих.
Кто-то засмеялся, кто-то ругнулся. Потом в одно и то же мгновение со всех сторон завопили:
— А план?
— А расчеты с банком?
— Что нам каменщики скажут, которые сверхурочно работали?
— А правительственное задание, выходит, не в счет?
Хмыкнул, покрутил головой Троилин.
— А вы нам, Николай Александрович, снимете январский план на эту печь.
Даниленко сдвинул брови. Нервно пощипал себя за губу.
— Конечно же, товарищи, и строители в ущербе, и цеховики. Всем плохо. Мне, кстати, тоже. Но приходится признать, что бывают безвыходные положения…
Расходились долго и неохотно. Даниленко окружили строители, в чем-то убеждали его, что-то выпрашивали, он отвечал торопливо, отрывисто — лишь бы отделаться, а сам неуклонно продвигался к выходу.
В конце концов в комнате остались только Рудаев и Лагутина. Она возле двери, он — у стола.
Лагутина нажала защелку на замке и приблизилась к Рудаеву.
— Ну, знаете, Борис Серафимович… Я привыкла к вашим крутым поступкам, но такого никак не ожидала.
Он взял ее руку, не поднимая головы стал перебирать пальцы. И такой трогательный был он сейчас, большой, сильный, выстоявший и нуждающийся в тихой человеческой ласке, что у Лагутиной повлажнели глаза.
В дверь постучали. Он прижал к щеке теплую ладонь и, тяжело поднявшись, пошел открывать дверь.
* * *
Когда Лагутина вышла из конторы мартеновского цеха, ее окликнул Даниленко. Он стоял у ЗИЛа в окружении строителей и, по всей видимости, никак не мог от них отделаться.
— Вы в город? Будьте ласка, подвезу.
Она не обрадовалась этому предложению. Ее всегда коробила манера начальства «подвозить». Сядет на переднее сиденье и либо хранит гордое молчание, либо снисходит до разговора вполоборота. Но Даниленко сел рядом с ней и, не успел шофер тронуть машину, заговорил о Рудаеве.
— Измором взял. Как в английском парламенте. Там, чтобы донять сенаторов, часами говорят о чем угодно, даже телефонную книгу читать можешь, и этот… Впрочем, пример неудачный, — сам себя опроверг Даниленко. — Рудаев действовал неспроста. Каждая цифра била по мозгам, врывалась в сознание. И результат налицо. Даже совнархозовцы не пикнули.
— А что им, они доживают последние дни, — сказала Лагутина, рассеянно глядя в боковое окно машины. — Они сейчас больше думают о том, куда устраиваться на работу. Не учли в свое время, что завод — это вечное, непреложное, польстились на преимущества аппаратной деятельности. Кстати, есть что-то очень притягательное в устойчивости общественных форм и нет ничего хуже реорганизаций. Они действуют разлагающе. Далеко не все могут работать с полной отдачей сил в подвешенном состоянии.
— Да, трудное время начинается, — согласился Даниленко. — Одни уходят, другие еще не пришли. А пока новое министерство наберет обороты…
— А пока безвременье… — Лагутина покосилась на шофера.
Даниленко понял ее опасение.
— Лицо доверенное и проверенное на молчаливость. — И громче: — Здесь, в машине, иногда такие вопросы решаются, вернее, предрешаются… А знаете, ехал я сюда совсем с другими намерениями.
— Знаю, это сразу было видно. Все только и ждали: вот-вот начнется укрощение строптивых. На людях, по слухам, вы предпочитаете загибать салазки.
— И вы верите тому, что говорят?
— Вы тоже этим грешите…
Теперь Даниленко перебросил взгляд на шофера — засек ли?
— Куда путь держать? — спросил тот, увидев в зеркальце нацеленные на него глаза и на всякий случай притормаживая.
— Эх, хорошо бы сейчас арбузика моченого… — простонал Даниленко и плотоядно сощурился.
Машина тут же свернула и, не успела Лагутина опомниться, въехала во двор.
— Прибыли благополучно. — Даниленко распахнул обе дверцы.
Хороший кирпичный домик, сарай, гараж, большой участок, от которого несся терпкий аммиачный дух. А дальше — степь. Черная, голая, будто и не зимняя. Только в ложбинах серел чудом задержавшийся снег.
Лагутина сделала несколько глубоких вздохов.
— А воздух тут деревенский.
— Вы присмотритесь к участку, — хвастливо проговорил Даниленко. — Люди добрые сажают капусту, свеклу, морковь, лук и, конечно, картофель. Все, что может пригодиться зимой. А здесь — люцерна, чечевица, овес и еще какие-то злаки, которые в доме абсолютно не нужны. У меня отчим агроном.
— Ах, вот у кого водятся моченые арбузики… Но, мне кажется, полагалось бы предварительно спросить человека, есть ли у него время и желание…
— Не успел, Дина Платоновна, — заговорились. — Вид у Даниленко смущенный, а глаза смеются.
Из дома вышла женщина. Типичная украинка — черные очи, черные брови. Гладко зачесанные на пробор и стянутые на затылке в узелок волосы. Расцеловала Дани-ленку, спросила не очень дружелюбно:
— А це шо за красуня?
И секретарь обкома, личность властная и порой нагоняющая страх, вдруг оробел:
— Это подруга Варюши, Дина Платоновна. Только теперь хозяйка дома соизволила поздороваться с гостьей и, сказав традиционное «Прошу до хаты», заторопилась в дом.
У Лагутиной сразу испортилось настроение. Что за патриархальщина? Солидного возраста сын, и такой сын находится под контролем. А может, его нужно контролировать? И почему он соврал? Почему не сказал так, как есть?
— Шофер может отвезти меня в редакцию? — спросила она.
— Мне очень нужно с вами поговорить, — тоном, пресекающим всякие возражения, молвил Даниленко. — Что касается Екатерины Васильевны… Она мне мачеха и женщина пуританского склада.