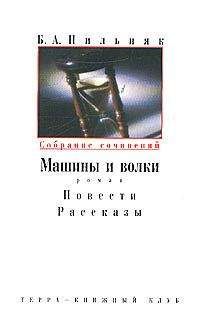Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай, — стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке «тихого плавания и бурной гавани», — но иной раз держали и бурное море.
У Марии родилась дочь, ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунша и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестною матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту возрастило то же море. Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом, — эта же ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? — на берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест, и замирает предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.
Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой, и долго прикалывали ей флер-д-оранж, цветы померанца. В церкви пел хор, невеста ступила первой на коврик. — И после венчания, в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена, — сказала, утвердила, спросила — о том, что дочь Марии — Мария — обоих их крестная дочь — есть дочь Николая, — что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, — что Мария поклялась ей, — и молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне, — и Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтоб рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад, — чтобы — вот, в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несуразицы.
Свадебный пир был в кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая, и тихо сказал:
— Николай, ты мне — брат. И я тебе — брат!
IV
Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь, — за тою синью, которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт-Кардиф, — дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти.
И тогда умерла Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Ивановичем, — ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись.
Андрей и Николай — Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.
Андрей Иванович сказал:
— Коля, ты поухаживай за Маней.
И Николай Евграфович сел над постелькой Марии.
Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутыль вина. Выпили. Молчали.
Тогда заговорил Андрей.
— Десять лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. — Правда, что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей.
И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, — о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга и его жены. — Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на крылечке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, — о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви.
— Должно-быть, она любила тебя, — сказал Андрей.
— С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом, — ответил Николай. — Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому-что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?
— Должно быть, она любила тебя, — повторил Андрей.
— Тогда той ночью она сказала мне, — сказал Николай, — что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи, — но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви.
— Она любила тебя! — сказал Андрей.
Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в этом мире. Не шумело даже море.
V
И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать, — собою она повторила мать: как некогда мать, запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у Николая Евграфовича посеребрели виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем, — возникли полнота и медленность движений; они носили теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя на-распашку, фуражки, прошитые золотым позументом, — капитаны дальнего плавания, — разменивали пятый десяток своей жизни.
Человеческое время идет рождениями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток, шел морями шесть месяцев, — в это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай Евграфович пароход Тихим океаном,
Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии; — чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество, — что не выйдут к нему настречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка — сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня, и постель будет пуста.
…О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.
Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матрос вытащили бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье, в белой косынке, — быстро бежала по каменистой тропинке.
— Дядя Коля, это ты? — спросила женщина.
Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню, — на белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы.
Николай Евграфович присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:
— Что же, тебя прислал отец?
— Нет, я пришла сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.
Николай Евграфович ничего не ответил, повернулся, постоял в двери, — опять повернулся, — неловко, потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб, — и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. — А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках, так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины накладывала, хозяйничала — Мария, и за чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно, пил, ел, посматривал, ни о чем не спрашивал.