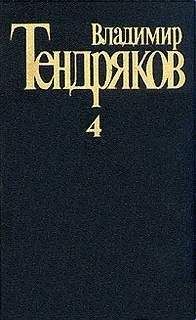Шуршит, стучит, играет спиной, бедрами, икрами и не очень-то продвигается вперед, я ее невольно нагоняю.
— Ох! — И как раз в дверях. Взглянула на меня просяще, жалобно, с такой беспомощностью, что нельзя не откликнуться.
— Что случилось?
— Нога… Кажется, растянула сухожилие… Юрий Андреевич, можно вас на пару слов…
Мы до сих пор едва здоровались кивком головы, ни разу не заговаривали, а нате вам — оказывается, знает меня по имени-отчеству.
— Юрий Андреевич! Можно мне с вами быть откровенной, как перед братом?..
«Хорошенькая»… Возможно. У нее молочный цвет лица, подбритые брови, мелкие черты, крашеные до истекающего сального блеска губы, глаза под вызывающе подведенными ресницами зеленые, прилипчивые, подозрительно чистые. Тяжко красные губы и неверные глаза на молочном в голубизну…
— У вас, Юрий Андреевич, такое лицо… Оно издалека греет…
И губы маслено улыбаются, открывая мелкие острые зубы, и в зелени глаз неверно мерцающая искорка, и нога подвернулась в нужном месте, и умильные слова, и как она заигрывала со мной спиной и бедрами — все фальшиво, как наклеенные ресницы, как волосы, доведенные до неестественной блондинистости.
— Только вас и могу попросить, Юрий Андреевич. Помогите! Я такая несчастная…
Крашеные губы по-детски припухли — вот-вот сорвется невинный всхлип, — и зеленые, заглядывающие в душу глаза заблестели слезой.
— Меня обливают грязью, Юрий Андреевич! Мне не дают проходу. Кругом только злоба сплошная, не к кому обратиться… Только к вам… Помогите!
— Чем?
— Вы журналист! Вы печатаете статьи! С вами не могут не посчитаться.
— Кто посчитаться?
— Из домкома. Какое они имеют право влезать в личную жизнь. Я и так несчастна!.. Неужели это не видно!
Риточка отвернулась, стала судорожно рыться в сумочке. Она несчастна? Да, пожалуй. Но как ни несчастна, а не дозволяет себе даже поплакать — потечет краска с ресниц.
Риточка промокнула глаза, страдальчески высморкалась в платочек, тихо сказала:
— Меня собираются судить товарищеским судом…
— И что бы вы хотели от меня?
— Пенсионеры, старички, масленые глазки… Им делать нечего, им, что мед лизать, выспрашивать да выпытывать, как, да что, да с кем и каким образом… Кто выдержит? Не имеют права! Не смейте ковыряться! Мне и без того тяжело… Скажите им, чтоб не смели. Прошу вас. Больше мне некого просить…
— Но я же не могу запретить товарищеский суд. Кто меня послушает?
Она вдруг разогнулась, поглядела долгим взглядом мне в лицо — в глазах ужас, громкий шепот:
— Должны же быть на свете люди с сердцем. Неужели их нет?
Я даже поморщился — распахнутые в ужасе глаза, театральный шепот. Невольно перестаешь верить во все, даже в то, что она несчастна. Несчастна, а о ресницах-то помнит. И просит не столь уж малое: чтоб вышел против всех, кому она надоела скандалами, против тех, кто себя считает защитником порядка и нравственности, наделен правом вмешиваться и судить. Выступи, поставь себя рядом. Нет уж.
Я сухо ответил:
— Извините, но… бессилен.
— Почему сильны только недобрые? Да есть ли добрые-то? — И вдруг, выгнувшись, она закричала: — Не мо-огу-у! Не могу-у больше! Хватит!
Все лицо — сплошные красные губы, лицо вызверившееся, безобразное и звонкий, привлекающий внимание крик. Крик человека, кому уже нечего стыдиться и нечего терять. Крик — жалкая месть, что не хочу расхлебывать ею заваренную кашу.
— Простите, — я решительно потеснил ее и вышел.
Прежде чем завернуть за угол, я кинул взгляд — Риточка шла в другую сторону, и ее ладная фигурка играла складочками плаща, играли бедра, вытанцовывали ноги, звонко прищелкивали каблуки по асфальту.
Ну вот — не могу, а уже вошла в норму, долго ли…
Я даже не успел почувствовать к ней жалости.
И вечером рассказывал Инге чуть ли не с негодованием: почему-то меня особенно возмущало, что Риточка постоянно помнила о ресницах.
— А все-таки жестоко, — заметила Инга.
— Что?
— Да за свою же беду попасть на суд.
— Может, мне проявить рыцарство, разогнать суд?!
— Ну нет, рыцарской защитой тут не поможешь… Не головой живет, самочьим инстинктом. Животный инстинкт — маловато для счастья, если находишься среди людей. Как тут помочь…
Высоколобая Инга с более мужским, прямолинейным, чем у меня, характером конечно же презирает Риточку, но…
— Все-таки судить несчастного безнравственно.
— Какой же выход?
— Если б я знала, то, наверное бы, помогла Риточке. Не знаю.
В нашей комнате было полно света, за стеклом книжного шкафа — пестрые корешки книг, на стене — большая репродукция Ван-Гога «Подсолнухи», уютно. Инга за моим столом стучит пальцем на моей машинке, перепечатывает песню только что объявившейся молодой поэтессы. К новым песням у нее не просто любительский подход, а серьезный, с теоретической подкладкой — жестокий романс возродился в преображенном виде, уже не жесток, а лиричен, мещанская узость уступила место романтической широте.
Тьмою здесь все занавешено,
И тишина, как на дне…
Ваше величество, женщина,
Да неужели — ко мне?
Булат Окуджава — кумир Инги.
На следующий день в нашем подъезде было вывешено объявление: «В Красном уголке при домоуправлении состоится товарищеский суд…»
Бесконечно велик мир, ничтожно мал «Я», затерявшийся в пространстве вместе с Землей. «Я» мал, но кто дал этому необъятному пространству физиономию — шесть миллиардов световых лет? «Я», привыкший считать годы и километры на своей планете. «Я» во всем отправная точка. Не будь меня с моим разумом, нельзя сказать, что мир существует. Нужен «Я», чтобы само понятие существования проявилось.
Любая вспышка разума — это вспышка всего мироздания. Убить человеческую жизнь — убить целый мир, не имеющий границ.
Как просто было бы спасти Риточку.
Олег Зобов, физик, кандидат наук, — спортивная выправочка, мятая клетчатая рубашка под Ландау, пренебрежение к галстукам, пристрастие к парадоксам и всегда наготове куча любопытных сведений от привычек Пифагора до последних событий в литературной среде. Олег Зобов, наш автор, клад для журнала, способнейший молодой ученый, из тех, кто считает себя солью земли, постоянно афишировал теорию:
— Все ждут, что наука осчастливит страждущее человечество. Ерунда! Заставит быстрей развиваться — да. Но можно ли развитие от ребенка в зрелого, от зрелого в старика считать вожделенным счастьем? Сомнительно.
Я много раз слышал это от него, соглашался, не соглашался, но никак и не возмущался — можно и так. Но теперь на меня от Олега повеяло крещенским холодом: уж если ты занимаешься делом, то рассчитывай, чтоб оно как-то согревало людей, иначе брось, а Олег готовил докторскую диссертацию, писал статьи, прославляющие свою негреющую науку.
Почти все, кто меня окружал, с любопытством читали статьи: в Китае всеобщее озверение, школьники-хунвэйбины хватают своих учителей, пытают, заставляют собственной кровью писать лозунги на стенах, потом убивают…
— Совсем с ума сошли… Эй! Кто стянул со стола мою шариковую ручку?..
Кровавые лозунги, предсмертные судороги, озверение детей, а «осетринка-то была с душком…».
Почему кровь, пролитая за тысячу километров от тебя, должна обжигать меньше, чем кровь, пролитая рядом с тобой?
Как просто было бы спасти Риточку!..
* * *
А поезд шел, и ночь бесконечна.
И тревожно спящие люди, как судьбе, слепо доверившиеся поезду, — довезет, куда нужно, не обманет.
И размышления, упирающиеся в один очень простой, очень важный вывод: старайся постоянно спасти другого, это самая надежная гарантия твоей безопасности. Просто, очевидно. Но люди подозрительны и очевидному не доверяют.
Я незаметно для себя забылся…
Проснулся я, когда весь вагон по-базарному шумел голосами, в проходе выстроилась очередь с полотенцами — умываться.
Поезд весело шел, бежали мимо окна согретые солнцем сосенки на косогорах.
Мой сосед по нижней полке уже приступил к своему — поучал, как нужно жить. Его сытый, вязкий голос заполнял отведенную нам часть вагона до потолка. Все молчали, никто не возражал.
— На детей нынче часто жалуются. А кто?.. От худого семени не жди доброго племени. Сами штанцы-обдергайчики натянут, юбки выше колен, морды крашены, поведение легкое, а ждут, чтоб дети росли серьезные и послушные. Не пеняй на зеркало, коли рожа крива…
Все молчали.
Человек сидит в темнице из своего «Я», до него ничего не сможет пробиться извне. Доказывать ему — все равно что внушать сострадание к запертой на амбарный замок двери. Глупость глуха, а значит, неуязвима, потому-то в век космических ракет на каждом шагу встречается дикое варварство. Забронированный глупостью человек внушает, его слушают, молчат, сознавая свое бессилие. Бессильно молчу и я.