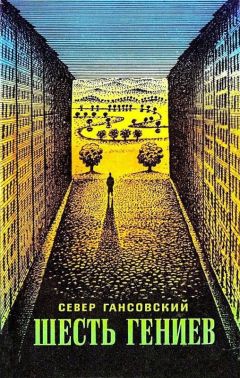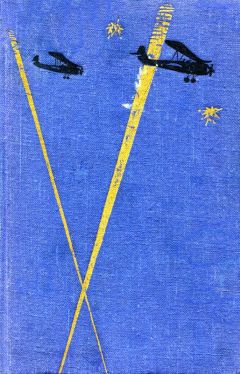Мне казалось, что мы попали в заколдованный круг. Жизнь каждого из нас зависела от другого, а жизнь полковника — от всех нас. Говорят, у людей есть второе дыхание. Я не знаю, правда ли это. Но откуда у нас взялись силы управляться с тяжелыми досками, я до сих пор не пойму.
До берега оставалось каких-нибудь сто метров, когда огонь догнал наш плот. Сначала он протянулся длинным и узким клином. Нам даже показалось, что мы можем от него уйти. Но через минуту мы были уже окружены пляшущими языками пламени.
Если бы кто-нибудь до войны сказал мне о том, что Волга может гореть, я счел бы этого человека, мягко говоря, фантазером. Бывают же такие люди — с богатым воображением. Но это была не фантазия, а правда, и мы были уже на краю гибели.
Густой черный дым мешал дышать, слепил глаза, вызывал судорожный кашель. При каждом покачивании плота горящая нефть попадала на доски, и они уже стали дымиться, по ним ползли змейки огня. Наши весла горели…
Вдруг шофер схватился за грудь и упал без сознания лицом вниз, рядом с полковником. Теперь мы остались с Логиновым вдвоем. Он по одну сторону плота, я — по другую.
Я оглянулся и поглядел на него. Он стоял черный от копоти и откидывал доской горящую воду. На какое-то мгновение невысокие волны оказывались узким барьером между плотом и нефтью, — тогда он начинал грести. Я тоже попробовал по его примеру воевать с пламенем. Но это было дьявольски трудно. Тяжелая доска не повиновалась мне, она стремилась уйти под воду.
У нас началось глухое, отчаянное соревнование. Нет, я не мог уступить, — и не потому, что я был командир, и не потому, что я помнил, что нас разделяло. В эту минуту я забыл обо всем на свете, кроме одного: мы все должны жить.
Несколько горящих капель упало на баул, и он начал тлеть. Надо было потушить брезент немедленно, но я не решался выпустить из рук доску. Чуть только я переставал отбрасывать горящую нефть, как пламя сразу же бросалось к настилу. Меня охватывало отчаяние. И вдруг я увидел, что Логинов, не выпуская из левой руки доску, изогнулся и, ловко схватив правой рукой баул за ручку, быстро окунул его в воду и бросил назад.
Неожиданно плот обо что-то ударился, и я едва устоял на ногах. Раздались крики.
— Осторожнее!.. Сюда!.. Сюда!..
Несколько бойцов на железном баркасе, с баграми в руках, подошли к нам вплотную. Двое из них быстро перепрыгнули через борт, подбежали к полковнику, осторожно перенесли его в лодку, а затем вернулись за шофером. Я бросил доску в воду и схватил баул. Но его тут же отобрал у меня Логинов.
— Товарищ командир! Залезайте быстрее. Я подам вам его, — и вскочил за мной в лодку.
Мы вернулись к себе на батарею поздно вечером. Обе руки у меня были забинтованы. Только на берегу я почувствовал боль от ожогов. Начальник политотдела уже знал обо всем, что произошло, и считал и нас и документы погибшими. Но я передал ему и баул, и пакет для командарма, и у меня еще хватило сил добрести до своего блиндажа…
А на другой день утром я встретил на тропинке Логинова. Он чистил на куске газеты свой автомат. Увидев меня, он встал.
Я подошел к нему и сказал:
— Слушай, Василий!.. Вот что я тебе, друг, скажу… Тебя, конечно, представят к награде. Но это дело особое. А мне очень хочется дать тебе рекомендацию… Не откажи!
В глазах у него мелькнуло что-то живое, задорное.
— А ведь и я вам тоже могу дать рекомендацию, товарищ командир!.. Кончится война, приезжайте в наши края. Из вас хороший плотогон получится. Для первого раза у вас шло неплохо…
— Ладно, приеду, — улыбнулся я.
Вечером мы единогласно приняли его в партию, а на другой день секретарь партийной комиссии пришел к нам на батарею и вручил ему партдокумент, один из тех, что был в спасенном бауле. Некоторое время спустя в нашей батарее появился новый парторг — сержант Соколенок, — который оказался более подходящим для этого серьезного и важного дела, чем Фомичев.
Вот и конец давней истории. Мы говорим иногда — «школа жизни», но не всегда понимаем смысл этих слов. Подлинная зрелость приходит к нам в суровых испытаниях.
С того дня я перестал утверждать, что стоит мне взглянуть на человека и я вижу его «насквозь»…
1958 г.
1Зимним декабрьским вечером сорок пятого года Андрей Батенин постучал в знакомую дверь в одном из больших домов на Пионерских прудах.
На лестничной площадке тускло светила синяя лампочка — видно забыли заменить, или хозяйственный управдом ждал, когда перегорит. Андрей невольно усмехнулся — да ведь и шинель на нем теперь тоже лишь воспоминание о войне…
Ему почему-то долго не открывали. Он с волнением ждал, когда послышатся знакомые быстрые шаги. Пять долгих лет прошло с тех пор, когда он был здесь в последний раз, зашел за Михаилом. И вот вернулся…
Он шел к матери своего убитого друга. В глубине души понимал, как трудна будет встреча. Сумеет ли он рассказать ей все, до конца. Хватит ли мужества?
Нет, он не узнал ее шагов. Тихие, медленные, они приблизились к двери, остановились. Неверная рука долго боролась с испорченным замком.
— Кто там?
— Я — к Елизавете Никитичне.
— Андрей, неужели ты?.. — послышался за дверью голос, знакомый и незнакомый одновременно. Прежде он не был таким глухим и надтреснутым.
В прихожей было темно, и Елизавета Никитична первая увидала его. У Андрея что-то оборвалось в груди, он быстро шагнул вперед и наткнулся на ее протянутые руки. Она обняла его и прижала к груди.
— Милый мой! Хоть ты вернулся ко мне!..
Она повела его к себе в комнату. В маленькую комнату, где стояли простые старые вещи: стол, за которым учился Михаил, диван, на котором он спал, Здесь все было как раньше, почти как раньше…
Андрей скинул шинель, повесил ее на гвоздь, пригладил обеими ладонями волосы.
Елизавета Никитична стояла посреди комнаты, опустив руки, и смотрела куда-то в стену. Как она переменилась. В первую минуту Андрею показалось, что она словно помолодела. Но это было только в первую минуту. Просто она похудела, и от этого стала легче, прямее, суше. К тому же на ней форма военного врача, а форма всегда подтягивает человека. Но как старчески приподнялись ее плечи, какие выпуклые лиловые жилки выступили на руках, какой желтоватой бледностью покрылись щеки! Да и волосы ее, еще недавно светло-русые, поблекли, потемнели. Седина подернула их серой пылью.
Но вот она тряхнула головой, отгоняя навязчивую мысль, и повернулась к Андрею.
— Ну, покажись, покажись, какой ты стал! — она взяла его за руку, подвела к свету и внимательно оглядела. — Изменился, повзрослел. До войны был совсем мальчишкой, а теперь уже зрелый человек, — старший лейтенант!.. Ну, да и я не кто-нибудь: майор. Ты должен меня слушаться!..
— Слушаюсь, товарищ майор! — улыбнулся Андрей.
— Есть хочешь? Наверное не обедал?
— Обедал, обедал, Елизавета Никитична, — он вспомнил те далекие дни, когда по вечерам, усталый и голодный, прямо из института прибегал в этот родной для него дом, где его неизменно встречали таким вопросом.
— Смотри, только без церемоний, — строго сказала Елизавета Никитична. — А то, небось, отвык от меня, еще стесняться вздумаешь… Садись за стол, будем пить чай!.. — она стала расставлять на столе чашки: — Мальчики, мальчики, вон вы какие большие стали… Не помню, ты с Мишенькой в одних годах?
— Он меня на полгода старше, — ответил Андрей.
С затаенной тревогой он ждал, когда Елизавета Никитична спросит о том, о чем он не мог рассказать ей в письмах. А теперь больше нельзя молчать. Надо говорить… Но как, как он скажет?.. Сердце у него замирало и во рту сохло, как бывало перед трудным экзаменом и перед началом атаки. Он пристально глядел в стакан с дымящимся чаем.
— Как твоя рана, Андрей?
Андрей вздохнул и, чтобы отдалить трудную минуту, стал торопливо и сбивчиво рассказывать о том, как его лечили в госпитале.
— Почему же все-таки не вынули осколок? — спросила Елизавета Никитична.
— Я был очень слаб. Врачи решили подождать, пока окрепну немного. А теперь я, вроде, к нему привык, — Андрей усмехнулся. — Он меня не беспокоит, и я его тоже.
— Это плохая привычка, — сказала Елизавета Никитична. — Я за тебя сама возьмусь. Будешь моим первым пациентом на гражданской службе…
Елизавета Никитична недавно демобилизовалась из армии, где прослужила двадцать шесть лет. Она была участницей трех войн. В этом году ей исполнился шестьдесят один год. Лоб и щеки изрезали мелкие морщинки, а подбородок дряблым комочком лежал на твердом воротничке офицерского кителя. И летчики, относившиеся к ней с большим уважением, называли Елизавету Никитичну «бабушкой авиаполка».
Чем ближе надвигалась старость, тем чаще Елизавета Никитична задумывалась над тем, как устроить свою жизнь. Старость ее была обеспечена. Но о будущем она думала с горькой тревогой.

![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)