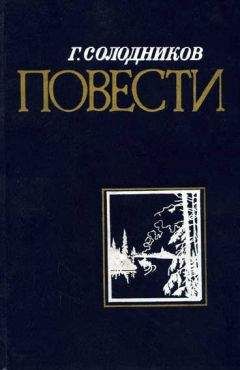Но признаки войны все стремительней заполняли город, всю его жизнь. Прибывали и прибывали эшелоны с ранеными. В зданиях некоторых школ и училищ наспех разворачивали дополнительные госпитали. Осложнялся всяческими ограничениями, скуднел быт. Появилось непривычное на слух и тревожное слово «эвакуированные». Оно всколыхнуло, задело за живое всех. Город стоял на пересечении двух транспортных магистралей — реки и железной дороги, — и через него забурлили потоком стронутые с насиженных мест люди.
Эвакопункты на вокзалах задыхались от работы и нехватки необходимого: попробуй накорми, размести, хотя бы временно, всю эту живую человеческую массу, вышибленную из привычной колеи, враз обездоленную, пахнущую кровью и горьким чадом пожарищ. А ведь большую часть людей нужно было поселить на долгий срок — может, на месяцы, а может, на годы. На учет стали брать все излишки жилья, всю мало-мальски свободную площадь.
В один из вечеров мать привела домой женщину с двумя маленькими девчушками — одна только-только вышла из грудного возраста.
Борису пришлось расстаться с отдельной комнатой, переехать со своими книгами и вещами к матери и спать, когда она находилась дома, на каком-то подобии топчана. Непривычно стало Борису, неуютно, и зажил он дальше с постоянным чувством недовольства из-за стесненной своей свободы.
Года не прошло — получила мать направление в полевой госпиталь.
И уехала, оставив Бориса одного, уповая на счастливую судьбу да на недреманное око педагогов техникума.
Как-то к Зуйкину пришел домоуправ и сделал ему отеческое внушение: нехорошо, дескать, молодой человек, надо бы комнату побольше уступить жильцам, поменяться, так сказать, местами. Борис — то ли вполне осознанно, то ли по недоумной молодости — уперся: так дело, мол, не пойдет, да и мать на этот счет никаких распоряжений не давала.
Все бы ладно, да домоуправ оказался тоже шибко ретивым. Мало ему показалось собственного авторитета, не захотел лишний раз поговорить с парнем, сразу доложил обо всем техникумовскому начальству. Тут уж Зуйкину по-настоящему не сладко пришлось — проработочку выдали до самых костей, без скидки на молодость… Еще сильнее невзлюбил он своих квартирантов, уверен был, что сама женщина ходила жаловаться к домоуправу и в техникум: все беды от них, только от них одних. Да и пацанки малые крепко ему досаждали: дети есть дети, лезли куда попало, ущемляя его хозяйское самолюбие.
Борька в разговорах часто поминал девчонок по-недоброму. Уж что другое Лешка знал в общих чертах, понаслышке, а эти неприязненные слова не раз слыхал самолично. Особенно коробило его никогда не слышанное раньше, простое вроде бы, но почему-то донельзя обидное слово «надавыши». Так постоянно называл Зуйкин детей квартирантки. А в последнее время только о том и говорил, чтоб побыстрее они умотали в свои места, откуда прибыли…
Зуйкин наконец заметил, что Лешка почти не слушает его. Легонько дернул за рукав.
— Ты что, задремал? Тоже мне… Я говорю: давай скажем, что ты был у меня, знаешь про мои хлопоты, что вместе до утра кемарили на пристани. А?
Что мог ответить ему Лешка? Сказать «да»? Вроде бы проще простого. Но почему ж тогда все восстало в нем, лишь он подумал об этом? Все только что пришедшее на память, будто наяву услышанное «надавыши» и недавний разговор Бориса с матросом — еще одной квартиранткой, — все поднялось в Лешке, захлестнуло его.
— Нет уж, Боренька, — сказал он с неожиданным для себя спокойствием, — сам за свои дела отвечай. Я тебе не пособник. Мы здесь встретились. Ясно?
Лешка отлично понимал, что его «да» или «нет» формально почти ничего не меняют. Так или иначе каждый из них будет отвечать за себя. Но в нем все противилось лишь от одной мысли, что их имена будут связаны вместе и на него, Лешку, как бы перейдет часть вины Бориса. Этого он допустить не мог. И потом, скажи «да», Зуйкину морально легче станет оправдываться и он как-нибудь постарается смягчить сердце несговорчивого Феди. И тут Лешка, переполненный неприязнью к Борису, решил окончательно отмежеваться от него. Вчера еще в начале встречи с Наташей, когда они поворачивали в саду на другую сторону аллеи, он увидел в группе ребят приметную чубатую голову Бориса в кепке-восьмиклинке, услышал его уверенный хохоток.
— Я могу сказать… Только не то, чего ты хочешь. Я ж видел тебя вечером в городском саду.
Борис явно не ожидал от Лешки отказа. Потому ничего и не говорил пока, дал возможность высказаться до конца. Но теперь лицо его закаменело, веки сомкнулись в жестком прищуре.
— Ладненько, Дударь! Хорошо, что открылся. Сучить на меня будешь? В долгу не останусь. — И он откинулся к стенке, равнодушно прикрыл глаза.
Лешка всегда завидовал в этом Зуйкину: он никогда не злился слишком открыто, не выходил из себя, пугающе не трясся, как некоторые, не брал на «понял». Но в этом его молчаливом спокойствии угроза чувствовалась еще сильнее. Она, невидимая и скрытая до поры до времени, казалось, растет там, внутри, ширится, и неведомо еще, как и чем обернется.
Зуйкин молчал недолго. Разлепил глаза и сказал тихо, не повернув головы:
— С Наташенькой, значит, гулял? Ну-ну, давай жми. Может, что-нибудь отколется.
Такого Лешка никак не мог предвидеть. Откуда он знает Наташу? Ведь о ней между ними никогда и речи не было.
— Ты о чем это? — унимая волнение, спросил Лешка.
— О том самом… До тебя, мальчишечка, у нее знаешь сколько перебывало? Нет, не знаешь. Огольцы — ах! Возьмут — не выпустят… И Владик, значит, тебя не просветил? Жаль…
Подлый был удар — ниже пояса. Как от настоящего, физического, Лешка задохнулся на момент. Потом вскочил, вцепился в Борькины плечи.
— Ты… ты… гад! Да знаешь, за это… — И, чувствуя, что сейчас у всех на виду ударит Зуйкина, ударит первым, — а тому только этого и надо, — повернулся круто и бросился к трапу.
* * *
Масленщик откинул крышку и стал шуровать длинной кочергой в топке газогенераторной установки. Густыми клубами повалил еду-чий, с прозеленью дым. Паренек круто воротил лицо и отплевывался. Потом поднял ящик с березовыми чурбашками и ловко опрокинул его над топкой.
Лешка нагнулся, подобрал один чурбашек, ковырнул ногтем крепкую, как сухарь, корку луба. Древесина была мертвой, но на него сразу повеяло парной прелью разогретой на солнце березовой коры, шибануло квасным духом сырого опила. Перед глазами закружились желтоватые спилы с чуть проглядывающими годовыми кольцами. Лешка машинально потер шрам на большом пальце левой руки. Палец как палец, только чуть заострен к концу, словно-стесан, и ноготь поуже. Отметина на всю жизнь.
В то лето Лешка по-настоящему начал работать. Несмотря на малолетство, он мог бы устроиться в ремонтные мастерские затона. Парень рослый, крепкий. Его могли взять даже матросом на какой-нибудь пароходик, а уж на землечерпалку — и подавно. Взяли бы, потому что хорошо знали его отца. Тот тоже ушел на реку с малых лет, начинал когда-то кочегаром и стал механиком землечерпалки… Но Лешке нельзя было надолго покидать дом. Некому досмотреть за маленьким братом, а на Ленку, сестру-второклассницу, надежда была еще плохая. Кроме того, надо помогать матери между делом заготовлять на зиму корм для козы Манефы. Да и саму ее выводить по утрам на выпас, а потом встречать с выгона. Вот почему Лешка оказался на заготовке чурки для газогенераторных двигателей.
Там работали женщины да пацаны. Пилили вручную березовые кряжи, скатывали кругляши в груды, а потом тяжелыми ножами-секачами кололи их на мелкие чурбашки. Когда поднатореешь в этом — дело нехитрое; левой рукой знай придерживай березовый круг на массивной колоде, а правой резкими взмахами откалывай чурки нужного размера. После у Лешки все так ловко и выходило, а вначале он чуть не отхватил себе палец…
Со временем ему понравилась работа на плотбище. Понравилась еще и тем, что была не постоянная. То нет нужного лесу, то много накопилось неразобранной чурки. К тому же по уговору с напарником можно было при случае выйти пораньше, попозже уйти, а на другой день не выходить вообще. Работа сдельная, десятник замеряет выработку у каждой пары в отдельности — кому какое дело, когда ты вкалываешь.
Лешка одно время даже приспособился и козу Манефу водить с собой — это когда поселковое стадо оставалось без пастуха. Вокруг штабелей и груд опила росла нетронутая трава. Лешка привязывал козу на длинную веревку к колышку, и она как миленькая ходила по кругу или лежала в тени вороха бревен.
Конечно, до такого додумался не сам Лешка, его заставила мать. И по первости ее затея принесла ему немало горьких минут. Уж посмеялись над ним огольцы, отвели душу. Даже дурацкую частушку в ход пустили про то, какая у него коза, как он на ней дрова возил и каким манером тормозил. Лешка парень не заводной, сам понимал; поневоле начнешь смеяться, глядя, как он тащит через весь поселок норовистую Манефу. Правда, ребята посгальничали день-другой да и перестали. А Лешка к тому же получил полезный наглядный урок: не надо бояться насмешек, особенно незлобивых — если на них все время оглядываться, никогда не сделаешь в жизни ничего путного.