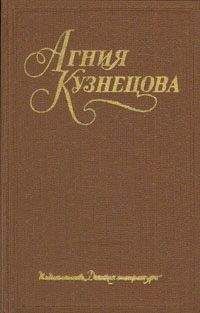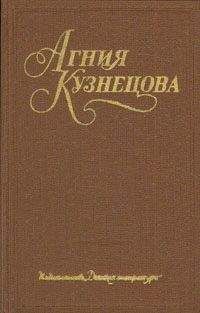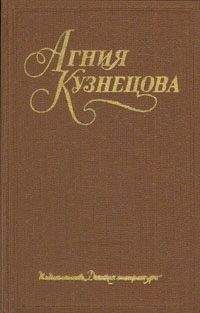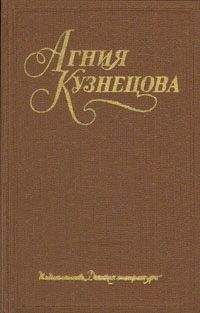Но вдруг появилась разъяренная бабушка.
– Сейчас же домой! – закричала она на весь двор, давясь словами и жестикулируя. – С убийцами забавляться вздумала! А ты, нехристь, стыд бы свой в доме прятал, а то уселся на виду, и совести нет, что товарища на тот свет отправил!
Павлик вскочил и бросился к своему подъезду. Он пробежал по лестнице с бледным, без кровинки лицом, с трудом сдерживая рыдания…
В восемь часов утра мать будит Павла, насильно заставляет его поесть.
Мать и сын молча идут к зданию суда. Этот путь такой скорбный, точно идут они в похоронной процессии. Он такой долгий – потому что от угла до угла, от улицы до улицы в мыслях того и другого пробегает вся жизнь: небольшая и нерадостная у Павла; большая, вначале светлая и полная, а потом незаслуженно обедненная у матери.
В 9 часов они входят в зал судебных заседаний. В пустых рядах стульев – одна мать Павла. Она сиротливо прижимается к стене. Ее знобит – не от холода, а от волнения.
Павлик должен сидеть на виду – напротив стола, покрытого красной скатертью. Он низко опускает голову, изредка исподлобья бросает взгляды вокруг.
В этот момент представляется ему, сколько показаний, протоколов, постановлений хранится в этих холодных каменных стенах. И на каждой бумажке чья-то горькая страница жизни, порой заслуженная, а порой случайная, как у него.
Думает он и о том, сколько теплой заботы чувствовалось в официальных на первый взгляд допросах женщины-следователя.
На первом допросе Павел не мог ничего рассказать. Он говорил путано и сбивчиво, уверяя, что целиком виновен в смерти друга. Будь он менее благородным и более трусливым, он мог бы отказаться от своей вины.
Он привез Тышку с острова в полном сознании, сам почти теряя сознание от нервного потрясения. После операции Тышка прожил один час. Верный друг, умирая, пытался спасти Павла.
«Я сам… Павка не виноват… я сам…» – несколько раз повторил он.
Экспертиза подтвердила, что Яков действительно мог случайно ранить сам себя.
Последний раз Павел сидел в кабинете следователя вот так же, как сейчас, низко опустив голову. В руках он нервно мял кепку, которая за несколько встреч со следователем из новой превратилась в старую, бесформенную.
Женщина-следователь, маленькая, полная, с мягкими движениями, чем-то отдаленно напоминала Тышку – вероятно, чуть выдающимися скулами и курчавыми темными волосами, подстриженными коротко, как у мальчишки. Поэтому и хотелось и не хотелось смотреть на нее.
– Павел, – сказала женщина, – я верю, что ты не мог намеренно убить своего лучшего друга, но мне нужны факты. Я вижу, что тебе тяжело говорить об этом. Пойми, у тебя нет свидетелей. На острове вы были вдвоем, и предполагать можно все что угодно. Давай же поговорим сегодня последний раз, и я все подробно запишу.
В ее голосе слышалось участие.
Он поднял голову, затравленным зверьком, исподлобья, взглянул на нее и встретил открытый взгляд больших ласковых и внимательных глаз.
В это время раздался телефонный звонок. Она встала с кожаного дивана, на котором сидела рядом с Павлом, вероятно пытаясь сгладить официальность беседы, и подошла к телефону.
– Не можешь? – спросила она кого-то низким голосом. – Ну, экзамен-то ведь не завтра… Сходи к Ване… Нет дома? А знаешь что… – сказала она, подумав, —прочитай-ка мне условие задачи. Так, так… Сколько? Сорок? Ну, а ты как решила?.. Конечно, неверно! Вот и я, как на грех, плохой математик. Ну-ка, диктуй задачу!
Она села за стол и, не отрывая трубку от уха, придерживая ее плечом, записывала.
– Ты пока решай, и я попробую. – Она повесила трубку. – Подожди, Павел, минуточку, – и задумалась над листом бумаги, совсем как школьница, волнуясь и кусая карандаш.
«Должно быть, дочь не может решить задачу, – подумал Павел. – Как странно, что у нее есть дочь, дом… Может быть, она, так же как моя мать, уходя на работу, готовит обед…»
В воображении Павла это было несовместимо с должностью следователя. И ее добрые глаза, в которых он читал сочувствие к себе, не вязались с тем, как она мучила Павла своими вопросами и подозрениями. Павел почувствовал, что окончательно запутался во всем. Какой-то тоскливый, неясный туман окутал всю жизнь.
– Вот черт! Ничего не выходит! – с сердцем сказала женщина и вдруг обратилась к Павлу: – Слушай, Павел, а ты в математике силен? Впрочем, я знаю, что по математике у тебя только пятерки. А ну, помоги мне!
Павел покорно встал.
– Нет, это не приказ следователя, – чуть улыбнулась женщина. – Если хочешь, то помоги.
– Пожалуйста! – сказал Павел.
Он подошел к столу, подвинул к себе бумажку с условием задачи.
В этот момент с него слетела та скованность, которая охватывала его в кабинете следователя. Он даже вздохнул глубоко и громко.
– Так это очень легкая задача, – сказал Павел. И объяснил, как ее решать.
– Ну, спасибо! – обрадовалась женщина и, торопливо схватив трубку телефона, назвала номер. – Ну как, Рита, решила?.. И я решила… То есть не совсем я… Ну… ну?.. Так и у меня… то есть у нас. Так. Молодец!.. С кем я решала? С одним мальчиком… Что? Почему он здесь? Да как тебе сказать… Он хороший, честный мальчик, но у него по неосторожности случилось большое несчастье, – твердо сказала в трубку женщина.
И Павел почувствовал, что сказала она это больше ему, чем дочери. Она повесила трубку, несколько секунд постояла у стола и снова села на диван рядом с Павлом.
Чутьем матери, опытом следователя по делам несовершеннолетних она предположила невиновность Павла, но только в этот день, наконец, ей удалось выяснить все необходимые факты для передачи дела в суд.
И суд начался.
Может быть, со стороны суд над Павлом Огневым выглядел странно: в огромном пустом зале – только мать подсудимого.
За столом сидят три женщины: судья и народные заседатели. По бокам, за столиками, еще двое: справа – прокурор, слева – защитник.
Все говорят негромко, будто не суд, а педагогический совет обсуждает проступок ученика, за которого и болеют и отвечают собравшиеся.
Судья, худощавая седая женщина в черном костюме с усталыми глазами, спрашивает Павла, признает ли он свою вину. Павел встает и, не поднимая головы, тихо говорит:
– Да, признаю.
Судья просит его рассказать, что произошло на острове.
Он повторяет все то же, что говорил у следователя. Здесь, в суде, перед ним с удивительной отчетливостью встает бледное лицо Тышки, его изумленный взгляд.
Приподняв голову, приоткрыв рот, Павел замолкает. На лице его – неподдельная скорбь. Он глядит поверх головы судьи.
Несколько секунд его никто не беспокоит. В зале мертвая тишина.
– Садитесь.
Павел садится, низко опустив голову, из глаз его неудержимо льются слезы, вздрагивают плечи…
Лицо судьи не выражает ни сочувствия, ни порицания. Зато народные заседатели, полные блондинки средних лет, похожие чем-то друг на друга, не скрывают жалости к подсудимому. Одна из них с состраданием смотрит на мальчика, другая смахивает с румяной щеки слезу.
Суд вызывает «свидетеля» – мать убитого.
Павел собирает всю свою силу воли, поворачивается и смотрит на ее измученное лицо. Она стала седой. Глубокая жалость, страшная вина перед нею заслоняют в его сердце все другие мысли и чувства. Нет, он не смеет обижаться на то, что она, любившая его, как сына, теперь не хочет видеться с ним. Она еще милостива к нему.
Павел почти не слышит, что говорит Тышкина мать, и вздрагивает, когда слово предоставляется прокурору.
Поднимается высокая женщина с горячими глазами южанки, с черной косой, небрежно заколотой на затылке, с выразительными бархатными бровями, которые, как бабочки, порхают и вздрагивают, пока она говорит.
«Что это она говорит? – с изумлением прислушивается Павел. – Она же не обвиняет меня! Или я ослышался…»
Но в зале явственно звучат слова обвинителя:
– Преступление совершено без умысла – нечаянно. Квалифицировано правильно – убийство по неосторожности…
Но дальше у него холодеют руки от ее слов:
– В соответствии со статьей сто тридцать девятой, я прошу суд применить к подсудимому наказание – три года лишения свободы.
Павел слышит, как в тишине зала плачет его мать. Судья предоставляет слово защитнику. Подвижный, еще совсем молодой мужчина в очках с четырехугольными стеклами выходит из-за стола. Сильно жестикулируя, он говорит о том, какие хорошие характеристики дали Павлу школа, товарищи и знакомые. Он пытается обрисовать крепкую дружбу Павла и Тышки. Останавливается на характере Павла, и тот в нарисованном портрете с изумлением узнает себя. Но слова защитника ему неприятны. «Разве можно обо мне – преступнике – говорить теперь так?!» И все, что говорит защитник, ему кажется неуместным.
– …Итак, прошу суд учесть, что подсудимый – учащийся, несовершеннолетний, имеет хорошие характеристики и то, что убийство произошло без умысла, – коротко повторяет защитник уже сказанное раньше. – Прошу суд также учесть и то важное обстоятельство, что подсудимый имел полную возможность скрыть преступление. Вспомните протоколы экспертизы и слова Якова перед смертью.