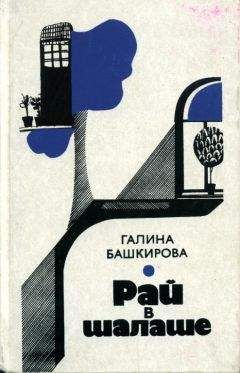Правда, Таня была, по-видимому, не совсем права, потому что Денисову такая жизнь нравилась: для него вечер — это отдых после целого дня совсем иной работы, и то обстоятельство, что его развлекали и удоволивали на дому последними новостями, было ему приятно и даже необходимо — разрядка, пауза перед новым рабочим днем с совсем иными проблемами.
...Костя бывал у них почти каждый вечер, ужинал, пил чай, подолгу беседовал о чем-то с Петькой в его комнате... Может быть, отчасти на Цветкова и сходились к ним в дом поздние гости? В те самые минуты, когда так хочется обменяться впечатлениями о только что увиденном спектакле или фильме, высказать свою точку зрения и вместе с тем услышать мудрое, все разъясняющее Слово Учителя, привычка, несознаваемо оставшаяся у многих с пятидесятых, школьных годов, когда была так нерушима вера в Высший Авторитет... тут Цветков был более чем кстати, он утолял эту жажду сполна, притом в лестной для слушателей форме: Цветков умел осветить только что виденное или слышанное гостями неожиданным светом, расширить рамки самого дрянного спектакля, углубиться в истоки театральности, ввести в русло общего культурно-исторического потока — словом, быстро расставлял все по своим, заслуживавшим того местам. Костя вел салонный и вместе с тем высокопрофессиональный разговор. Тут было благодатное сочетание воспитанности, природного такта и большой образованности; тут была привычка, выработанная с детства, усвоенная в семье, непростое умение не только вести плавную беседу, но, будучи отменно любезным, высказывать при этом лишь то, что полагаешь для себя возможным. В сущности, это, скорей, было право хозяина дома — держать в руках нерв разговора, только у Таниного дома был другой хозяин, и хозяин этот великодушно позволял Косте играть в своем доме ту роль, которую он себе присвоил.
Но было и еще одно обстоятельство, вынуждавшее Цветкова играть эту роль. Дело в том, что, как правило, он-то все виденное гостями уже видел и везде успел побывать. Первым. Все знакомые знали, что Цветкова зовут на прогоны в модные театры — для того, чтобы он что-то сказал, присоветовал, сгладил или заострил; всем было известно и большее — что он работал над инсценировками с известными режиссерами, имя его не попадало в афиши, но об истинном вкладе Цветкова в самые нашумевшие и, к слову сказать, давно отшумевшие спектакли догадывались многие... Что касается кино, то тут на Костю работала могучая и всезнающая студенческая корпорация. По каким клубам что идет, какие сеансы, что, по слухам, вскорости покажут — все это Цветкову сообщалось заранее, и при этом ему еще приносили билеты или пропуски на любой просмотр: из всей факультетской профессуры только профессор Цветков в любое время был готов сорваться с места; он подхватывался в минуту, брал неизвестно для чего свой неизменный портфель и, какой есть, плохо выбритый, одетый не по погоде, мчался с ребятами, не спрашивая куда. Кончались эти зрелища покупками сыра и колбасы в соседнем магазине и долгими, за полночь, разговорами у Цветкова дома. Ах, как оно было удобно, его холостяцкое одиночество! Надо отдать Косте должное, своих студентов в дом к Денисовым он приводил редко, хотя до факультета на Моховой было рукой подать, разве что избранных, самых любимых, тех, кого хотел показать Тане, чтобы посоветоваться о дальнейшей их судьбе, попросить пристроить у Тани в институте... В погоне за зрелищами Цветков был неутомим. Но кино было, пожалуй, его главной слабостью. Он часто звал с собой Таню, любил сидеть рядом, прижавшись плечом; в местах, которые его особенно трогали, боязливо погладить руку, часто смеялся неожиданно, в тех эпизодах, где зал, как правило, молчал, и, когда, оглянувшись, он видел, что она улыбается тоже, благодарно улыбался в ответ. Кино была его особая, разделяемая лишь с Таней жизнь: молодая толпа у входа, безнадежно стреляющая билеты, всеобщее оживление на лицах, и надо Таню оберегать, чтобы подойти к контролю, и возбужденные лица в фойе, и медленно, торжественно гаснущий свет, затихающий шепот, немыслимая духота к концу сеанса и озабоченные его вопросы: «Тебе не жарко?», «Тебе не плохо?» — в эти часы в темноте зала она принадлежала только ему... И потом, после окончания сеанса, когда они выходили на улицу и студенты-благодетели, издали им кивнув, неохотно удалялись, Костя обычно молчал, ждал, захочет ли Таня заговорить. В эти минуты он бывал тих и деликатен, стараясь, в отличие от Денисова, не вмешиваться в ход ее внутренней работы. И Таня была благодарна ему за молчание. Впрочем, Денисова он тоже приглашал в кино, но так, словно кость кидал, на самые дефицитные фильмы, демонстративно делая ему приятное. При этом Костя, или что-то в нем себя оберегавшее, соблюдал определенную пропорцию, скажем такую: три раза они ходили с Таней вдвоем, на четвертый в «культпоход» приглашался Денисов. Денисов относился к этой нехитрой арифметике спокойно: обычно ему бывало некогда, так он, во всяком случае, утверждал.
Цветков и впрямь был в их компании единственным хорошо информированным человеком, и он щедро делился собой и своей осведомленностью с денисовскими знакомыми. Тем самым вольно или невольно он попадал в плен собственной роли. Тяжелая роль, но как от нее отказаться, если она уже предписана. Вначале, после его переезда в Москву, эта его роль Тане импонировала, ей нравилась Костина вхожесть в чужой для нее и необычный по стилю жизни мир, нравились его рассказы, приятно было, когда он знакомил ее с режиссерами и они что-то важное при Тане обсуждали. Приобщенность к чужой славе, знакомые всей стране имена и лица, особенно же лица, фотографии которых торчали в каждом газетном киоске, придавали и ей, тогда совсем молодой, жадно всем и всеми интересующейся, чувство собственной значительности, достававшейся ей рикошетом от Кости.
Но шли годы, и что-то в Тане незаметно изменилось. Гораздо более спокойно и властно ощущала теперь Таня отдельность, значимость дорогого для нее, добытого своим разумением опыта мысли, звонкие имена оставляли ее равнодушной, она инстинктивно избегала знакомств со знаменитостями, переболев чужой славой, как в детстве болеют корью. Не осталось даже отметин, нет, впрочем, остались, несколько давних, преимущественно женских знакомств, перешедших с годами в приятельство, а потом и в дружбу. Но иногда Тане казалось, что и эти дружбы давно бы отмерли, если бы они с Денисовым переехали из центра куда-нибудь подальше, допустим, в Орехово-Борисово или Медведково. Дом в Кисловском, как уже было сказано, мощно поддерживал любые, самые случайные контакты. А может быть, Таня была слишком мнительна? Ведь нужна же была Таня Лене. А Лена, самая близкая в последние годы Танина подруга, жила, слава тебе господи, в Ясеневе, час езды до Таниного дома. Кроме обычной женской дружбы, то есть разговоров о тряпках, мужьях и детях, их связывало и иное — Лена первой давала Тане читать все, что писала, Танино мнение было для нее непреложно, без Таниного одобрения она ни строчки не сдавала в печать. И не любила Лена, когда Таня уезжала из города. Кстати, в доме на Кисловском она почти не бывала, Лена не любила суеты и внезапных приходов неинтересных для нее гостей. Смешно сказать, но встречались они обыкновенно на Суворовском бульваре, потом шли по Тверскому, в хорошую погоду садились на теплую, прогретую солнцем скамейку, и там обычно решались накопившиеся проблемы. О чем бы они ни говорили, эти полчаса-час были для обеих праздником, передышкой от обыденных забот, хотя именно этим заботам отводилась немалая доля времени в их торопливых, взахлеб, разговорах. А потом Лена, провожая Таню до подъезда ее дома, отчаянно качала головой, отказываясь зайти, подталкивала Таню на ступеньки к лифту — конечно же они никак не могли расстаться, — смеялась: «Иди, иди, шагай, пленница, корми своих нахлебников!»
В самом деле, Таня и была пленницей, подвластность домашним обстоятельствам и бесконечным утомительным разговорам тяготила ее все больше. Косте же эта нараставшая в Москве, становившаяся почти обязательной, словно воинская повинность, мода на жизнь развлекательную, полную иллюзорных необходимостей везде бывать и все видеть, все успеть обсудить, была ничуть не в тягость. С годами Костя все больше втягивался в эту игру, отнимавшую понапрасну столько времени и сил, — консультанта, первого зрителя, тонкого истолкователя, к голосу которого прислушивались обе стороны, и те, кто творят, и те, кто творчеством этим наслаждаются в свободное от работы время. Разумеется, театр, кино, выставки, истолкование входили в основные Костины занятия, но с каждым годом увеличивалась в его поведении ставка на престижность этих самых его занятий. Так, по крайней мере, казалось Тане. Странно, но Костя за собой этого не замечал...
Надо отдать должное Денисову, он относился к Костиным увлечениям с долей иронии. С другой стороны, в интеллектуальном хозяйстве денисовского дома Цветков был для него небесполезен, Таня подозревала даже, что в высшей степени полезен, и это детское желание мужа, чтобы все вокруг его семьи содержалось на высшем уровне, Таню забавляло. Как Денисов относился к Косте на самом деле, теперь трудно установить — слишком все затянулось, размылось, обрело характер столь стойкой привычки, что сквозь нее лишь изредка, как сегодня вечером, прорывалась с трудом сдерживаемая досада. А обычно Денисов возвращался домой после беспокойного дня и, заставая Костю, отдыхал в разговорах с ним, как отдыхают иные у телевизоров: Костя легко включался любым наводящим вопросом — так телевизор включается нажатием кнопки. Здесь было просто более современное — дистанционное — управление. У Тани этот обнаженный механизм их общения вызывал досаду, но оба постоянных собеседника, казалось, считали, что так оно и должно быть. Костя внешне охотно начинал что-то объяснять, Валька внешне охотно слушал, если ему надоело, легко переключая Цветкова на другую тему. И вот уже Костя увлекся, вот уже ему самому стало любопытно, и он уже с жаром что-то Денисову объясняет, и тому тоже небезынтересно... и все пошло, покатилось, и уже пора ужинать или чай пить, или Петька пристал с вопросами, а Таня...