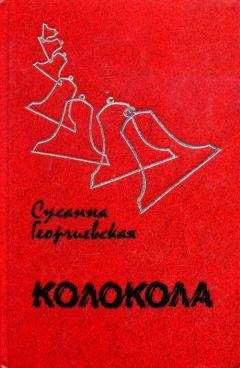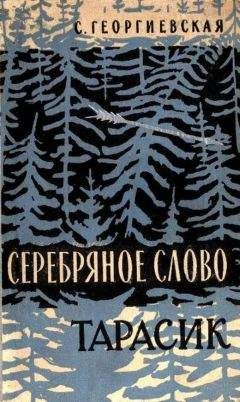Главные затруднения (чисто внешние, частично одолимые с годами), которые я испытывала, — это общие затруднения малоопытных писателей: постройка вещи. Для того чтобы вещь легко читалась, кроме прочего, она должна быть умело построена (словно дом, в котором возможно было бы жить). Крыша венчает любое строение — ей невозможно стать фундаментом. А между тем сколько раз я начинала строить свои здания с крыш!
В погоне за неизбежной, обязательной правдивостью «звука», выражающего вещь в целом, я часто упускала из виду правильную постройку вещи. Это я испытала с повестью «Отрочество», в которой из-за неумелой постройки мне пришлось отказаться от многих удавшихся «кусков» — глав, от десятка страниц, затруднявших чтение: они органически не лезли в общее здание повести — я не умела их собрать.
Неумение «строить» — недостаток многих молодых писателей.
Прошло много времени, пока я поняла, что жанр лирической прозы вообще, по-видимому, не терпит большой длины. Книга лирика хочет быть по возможности краткой и емкой. В лирическом повествовании, то есть рассказе о человека или людях — их характерах, поступках и чувствах, — практически может и не быть прямого сюжета, ничего «сенсационного» на протяжении повествования может и не происходить: это всего лишь кусок жизни, ее «отрывок». Если человек, о котором пишет лирик, совершенно ясен с самого начала, если он не раскрывается впоследствии более полно, то писать, собственно, не о чем. Люди, их характеры, мотивы их поступков — как бы содержание книги в целом.
Разумеется, я говорю о «сути дела» — грубо, весьма общо, — здесь возможно множество колебаний в ту или другую сторону, может появиться и некоторая острота сюжета, но главное остается все же: действующий, живущий в этих обстоятельствах человек (или люди) — мир их чувств, ошибок, их понимание мира, их восприятие действительности.
У людей бывают разные профессии, они населяют множество точек нашей страны, и чтобы поставить их в те или иные условия, кроме моего частного знания людей — меры их радостей и страданий, — мне приходится многое, по мере сил моих, узнавать для того, чтобы родилась книга, Я езжу по стране и без поездок работать совсем не могу. Это относится к каждому (или почти к каждому) рассказу и повести, написанным мною. Я начинаю книгу со «сбора материала» — будь то школа, рыболовецкий совхоз или Тува. Мой герой (или героиня), о которых я по-человечески заранее все знаю, должны быть поставлены в обстоятельства, знакомые мне. Мой личный, «биографический» опыт использовать не удается почти никогда. Я с е б я н е и н т е р е с у ю. Поэтому в моей работе почти что нет элементов биографических, хотя я не могу писать на материале, который не знала бы превосходно (не объективно, но, хоть для себя, субъективно). Это относится главным образом к малому количеству моих вещей о войне, производящих впечатление биографической записи, не будучи ею.
До войны, в 1941 году, в марте месяце, в Москве, мне довелось однажды встретиться с писателем В. Вересаевым, вызвавшим меня к себе. Викентий Викентьевич очень интересно говорил о «судьбах» книг, судьбах, словно от их авторов не зависящих. (Это как судьбы людей — мало зависящие от матери, их родившей.) «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» и т. д. Наше дело — работать. И жить. Как можно мужественнее и честнее.
Лишена ли недостатков хорошая книга? Нет. Книга, как и человек, может быть полна недостатков и быть при этом хорошей, даже прекрасной, покорять. Книга может быть лишена или почти лишена зримых недостатков, но не затрагивать человеческое сердце.
Позволю себе привести для примера прекраснейшую книгу Хемингуэя «По ком звонит колокол». В этой повести рассказ одного из героев (героини Пилар) торчит повестью в повести. Не она это говорит. Говорит, и видит, и делится увиденным Э. Хемингуэй. Это недостаток (внешний), который заметит любой мало-мальски опытный литератор. А между тем спасибо, огромное спасибо и за книгу, и за рассказ Пилар. Пусть остается внешним нарушением всех возможных канонов — но существует.
Какой из этого можно сделать вывод? Множество — и почти никакого. «Жар сердца», — повторю снова, — обязательное условие существования любого литературного произведения. Лишь без него нельзя обойтись. Для того, чтобы жить, — и книга, и человек не могут быть мертворожденными. Живой пульс передается книге ее автором. Как? Искренностью, — отвечу я снова, — безмерным доверием к читателю — это е д и н с т в е н н о е и непременное условие для существования, для живучести любой книги вообще. Сложный это вопрос, о нем можно было бы говорить бесконечно. Но все в этом мире имеет форму — и человек, и книга, и письмо, и статья. Поэтому я, «дорвавшись» до того, чтобы поговорить о работе писателя, закончу все же перечень открытых мною «секретов».
Мне могут бросить упрек в том, что, делясь своими мыслями о ремесле прозаика, я говорю об этом ремесле как о категории внесоциальной.
Отвечу: выделять этот вопрос из общих вопросов жизни, смерти, труда, радостей и горя мне кажется немыслимым, невозможным. Я — человек своего времени, дитя своей страны, о них и пишу. Нельзя сказать себе, садясь за стол: «А напишу-ка я вещь социальную, сегодняшнюю». Надо быть сердцем и помыслами человеком с в о е й страны, той действительности, в которой ты живешь, болея за нее, любя, страдая и радуясь, чтобы написать книгу о людях своего времени. Это знание как бы сам состав твоей крови, твоей логики, а значит, и твоей книги. Поэтому я этот вопрос и не выделяю особо из вопросов о писательской профессии в целом, он разумеется сам собой.
Вот то немногое, что я могу сказать сознательно о своей работе. Многого в ней я не знаю, но, быть может, пойму, когда стану совсем уже старой.
Как о личной особенности мне следует сказать еще и о том, что я помню каждого сказавшего мне на протяжении всей моей жизни о моем труде, хоть случайное, доброе слово. Эти слова я помню — с большой и никогда не остывающей благодарностью. Вероятно, подобная благодарность и «страстная» память живут во мне потому, что, будучи человеком крайне в себе неуверенным (более того, чем это допустимо профессией), я бессознательно нуждаюсь в словах поддержки для пользы своего дела.
Приходится, как это ни грустно, сознаться в том, что я (увы!) в достаточной мере слабый человек.
10
Я не в ладах с цифрами. Плохо запоминаю даты. «Это было... одну минуту... в... году... Я, кажется, тогда писала «Тарасика»? Нет, «Молодые»... Да, да. Это было в том самом году...»
Признаками моей биографии стали книги. Сегодня (в 73-м) — мне 57 лет. Книг мною написано — двадцать две. Однако я знаю, что напишу их тридцать три. Ровно тридцать три. Понимаете?
Странно, не правда ли? Откуда такая уверенность?
От суеверия. Я — суеверна, как все матросы.
Однажды я лежала в больнице, «отдавала концы» — умирала.
На дворе был день. Свет причинял мне боль. Лежа в палате, я ушла во тьму, где была одинока, как всегда бывает одиноким тяжко больной человек. Одна. Среди расплывчатых видений, о которых люди потом никогда никому не рассказывают.
То, что делалось со мной и во мне, было много торжественнее и больше того, что умеет о себе рассказать человек.
«Мне жарко, — думала я. — Мне очень жарко. Мне недостает воздуха».
Закрыв глаза, я как будто неслась над землей, над трубами, крышами, как это бывает в детских снах. Напрягшись, я расталкивала воздух руками.
И вдруг попала в Ленинград в Публичную библиотеку, в которой когда-то написала свой первый рассказ.
Я поднимаюсь по лестнице библиотеки и думаю, как тогда:
...Интересно, а будет ли в каталоге стоять когда-нибудь хоть одна моя карточка?
И вот я медленно, осторожно подхожу к тому ящику, который на «Ге».
Ге-ор-гиевская, С. М.
Принимаюсь считать... Пятнадцать! (Довольно!) Двадцать! (Довольно!) Двадцать де-вять!.. Тридцать... Тридцать две. Тридцать три!..
Черт знает что!.. Как долго мне еще предстоит жить.
КИРА, ДОЛИНОВ, МАЯКОВСКИЙ И ПАСТЕРНАК
Светлые капли дождя лениво ударялись об оконные стекла. Время было весеннее.
Сева Костырик — студент последнего курса Архитектурного института имени зодчего Воронихина — циклевал пол в квартире Зиновьевых.
Сам Зиновьев, Иван Иванович, с которым Сева не однажды ремонтировал квартиры тех, кто хорошо за это платит, напевал и, насмешливо щурясь, грунтовал стены своей новехонькой, только что полученной кооперативной квартиры.
Он пел:
Ка-ак в степи глухой
По-о-омирал ямщи-ик...
Маляр Зиновьев — первейший мастер своего дела, бывал в Чехословакии, Польше, Болгарии. Дочь его Кира не теряла надежды, что придет время и батю пошлют в Париж.
— Замерзал, а не «помирал». И что вам за охота, право, Иван Иваныч!