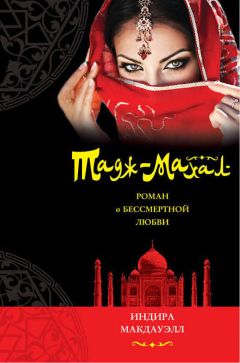Когда-то, рассказывают, на вершине горы стояла деревянная часовня. Ее строил кочелаевский помещик Ломакин. В честь какого-то нищего. Тот, говорят, спас его от грабителей. Видать, не эрзянином был — Дионисием звали. Эрзяне таких имен не дают своим детям. Часовня со временем сама по себе развалилась или ее после революции сломали — забыли уже. Говорят, тот самый Дионисий, чье имя носит родник, в свое время приносил в часовню, что стояла на Пор-горе, негасимую свечу. Эту свечу, говорят, он принес с могилы Иисуса Христа, из Палестины. Там зажег он ее от горящей святой лампады…
Как нищий смог пронести горящую свечу тысячи километров, никто, конечно же, не знал. Но старожилы рассказывали. И тогда, в прежние времена, люди всему верили — не то, что сейчас. Сейчас люди ожесточились, выветрили что ли свои души, друг на друга с ножами готовы кинуться. Монашки потом это так объясняли. Из Палестины святой огонь Дионисий весь путь нес, якобы, в рукаве. Шел лесами, где ветра не было. Пошел бы по берегу моря, огонь вряд ли сохранил. Множество судов тогда потонуло в бурливой воде.
Говорят, нищий и умер в часовне во время обедни. В руке держал горящую свечу. И когда падал, не выпустил ее из руки. У родника до сих пор лежит большой камень, похожий на мельничный жернов. Возможно, под ним лежит тот, кто и принес негасимый огонь? Если не он, Дионисий, почему тогда монашки прикладываются к камню как к иконам, которые они принесли из далекого монастыря?
Олда достала из шкафа банку святой воды, наполненную в роднике, и побрызгала дочь. Святая вода снимет тяжелые думы. Сама тоже отпила глоток. Потом поднялась к старику на печку. Думала уснуть, за день сильно притомилась, но сон не шёл. Бабка тяжело ворочалась на теплых кирпичах и тихонечко вздыхала. Вспоминала молодость. Сразу после свадьбы мужа взяли на фронт. Олде тогда было семнадцать. Дома осталась за хозяйку. Свёкор, правда, был жив. Но уже почти слепой, с койки не вставал. Во дворе держали много скотины: корову, бычка, овец, кур. К тому же, Олда часто ходила во Львовское лесничество рубить дрова. Бревна возили с бабами и стариками на железную дорогу, грузили на товарняки. И так — изо дня в день, из месяца в месяц. Без отдыха. Только весной, в половодье, когда лесные дороги закрывались, она оставалась дома. Лежа на широкой кровати, ей становилось все хуже. Порой не могла вымолвить и слова. Перед глазами всегда стоял Эмель. Мужа она и во сне видела. Будто спит с ней, ласкает, целует. В это время во сне она извивалась змеей, и с разгоряченного тела спадало одеяло.
Утром Олда вспоминала приснившееся, и этого ей хватало на целый день. Острые груди, незнающие детских губ, горели под рубашкой.
От Эмеля уже четыре месяца не приходило писем. Олда сначала плакала — думала, что муж погиб. Но сердце все равно ждало, будто чувствовало: жив Емелька, ранен, наверное, в госпитале лежит. А тело… тело по-прежнему просило, даже требовало свое. Не пристанешь же к сопливым паренькам — они на лесоповале сами с ног валятся. Старики? В их противных бородах пропадешь — они гуще дремучего леса.
Лежит как-то Олда на койке, Эмеля вспоминает. Вот он нагнулся над ней, горячо обнял, расстегивает кофту…
Олда скинула одеяло — к пяткам будто прикоснулись раскаленной сковородкой. Встала, прошлась по темному дому, не чувствуя прохладного пола. Подошла к столу, уперлась животом к краю, потом к подножкам печки — непонятное чувство не проходило…
В это время чихнул свекор. Молодуха — к нему. С печки стащила за пятки, взяла в охапку — и на койку, на себя! Хрипел, хрипел слепой старик, от неожиданности кровь в голову хлынула. Возможно, подумал в это время, что сам черт пришел за ним и потащил в пекло. Олда закатила глаза, мнет у свекра высохшее, как лучина, тело, целует, дрожащими руками нащупывает мужскую плоть…
Вскоре свекор перестал стучать зубами, успокоился. Олда тоже уснула и до самых петухов видела сладкий сон: вернувшийся из армии муж подбородком водил по ее грудям…
Вскочила — под окнами гонят стадо. Подняла голову с подушки — вай-вай-вай! — около нее спит свекор. Лицо синее, под носом кровь. Губы искусаны, язык прикушен.
Хорошо, что в селе о случившемся никто не узнал: умер дед Спиридон, все с собой унес. Почти семьдесят лет жил на земле. Последние две зимы редко слезал с печки. Похоронили — и будто его не было. Шла война. Не только старики — молодые погибали.
«Каких только грехов нет на земле — всё на весах не взвесишь», — с горечью подумала Олда.
Сейчас ей самой уже за семьдесят, но та ночь все равно не уходит из головы. Может, поэтому и молится каждый день. Конечно же, из-за этого. От грехов нужно очистить душу. Скрытно, чтоб никто не знал.
* * *
В тот вечер, когда сгорела конюшня, Миколь Нарваткин заходил к Трофиму Рузавину.
Друзья «цыгана», которые приехали с ним из Саранска и были эрзянами, пошли в кочелаевскую гостиницу. Миколь сказал, что останется ночевать у родных, и вот остался. Понятно, он их обманул. Трофим с Миколем сдружились в тюрьме. И в Вармазейку он, возможно, не попал бы, если не Зина. Она недавно, обнимаясь с ним в постели, говорила, что на Масленицу поедет к родителям. До праздника оставалось всего три дня. Кто знает, может, и раньше встретятся. Женщин не поймешь — у них семь пятниц на неделе. Они как птицы: глядишь, только еще сидели на проводах, потом раз — и вспорхнули в небо. Поэтому и Нарваткин остался в Вармазейке. Других дел у него не предвиделось. Думали в колхозе отремонтировать бороны, но им эту работу не дали.
Весь день дом у Рузавина был на замке. От безделья Миколь шлялся у колхозной мастерской. Наконец-то не выдержал и захотел встретиться с Зиной. Поинтересовался у механизатора, ремонтировавшего трактор, как ее найти. Тот окинул его пристальным взглядом, с хрипотой сказал:
— Дом отсюда далековато будет, у самого клуба… Ты в конюховку зайди, дед Эмель, наверно, там…
Действительно, отец Зины будто ждал его. Но разговор не клеился — трепать языком желания у старика не было: как-никак породистых лошадей сторожил. «Цыган» (так представил себя Нарваткин) зря не будет слоняться около конюшни — дела его «известные».
На лице старика Миколь уловил знакомые черты, которые видел и у Зины. Когда та щурила глаза, вдоль носа собирались морщинки. Похожие на те узоры, которые бывают в холодную зиму на окнах.
Они похожи на стежки-дорожки, которые он прошагал в нелегкой жизни. Нарваткин иногда и сам не знал, куда они его заводили. Иногда за год пять мест менял, а душа все равно не успокаивалась. Все искал чего-то неизведанного.
Миколь рос в детском доме. Видел много несправедливости, с которой не смирялся. Из-за этого однажды и попал в беду. Это было на одной из строек Саранска, где он работал каменщиком. Если правду сказать, выручал не себя, а незнакомого парня. Тот только что вышел из будки, где раздавали зарплату. Вдруг перед ним встали двое примерно его возраста. Ухмыляются, в руках тяжелые палки. Ждали, конечно же, его. Тогда, говорили, в городе шаталось много шпаны. Видимо, и эти входили в одну из шаек. Они схватили кассира за ворот и стали требовать деньги. Миколь остановил растворомешалку и решил выяснить отношения.
Один из парней с лицом, похожим на решето, резко двинулся навстречу:
— Ты что, решил друга выручить?
— А вы что к нему пристали? Оставьте его!
— Если пристаем, значит, по делу. Долг не заплатил. А ты иди, откуда пришел. Сами как-нибудь разберемся. Понял?
Он вдруг выхватил из кармана нож и стал делать резкие движения.
— Иди сюда, справедливый!
Миколь посмотрел вокруг — друзей близко не было: шел обеденный перерыв. Вспомнил о ломе, который лежал под плитой. Шагнул к ней, достал его и замахнулся на непрошеных гостей. Уже потом, на суде, ему напомнили, что одного он оставил без трех ребер…
Конечно, Нарваткину и самому досталось. Два зуба выбили, губы разбили, бока помяли.
Три недели лежал Миколь в больнице. Несколько раз приходил к нему следователь. Спрашивал, как подрались, почему. И что думаете? Так дело повернул — сам, говорит, полез, никто тебя не трогал. Не выручил и кассир, побоялся, видать, что отплатят злом. И пришлось сесть Миколю в тюрьму.
Знал он свою цену: высок, статен, профессий не сосчитать — и столяр, и слесарь, и шофер, и сварщик — нигде не пропадет. Не зря друзья, с кем он вчера приехал из Саранска зарабатывать деньги, сказали ему: «Ты, Миколь, мастеровой, будь нашим бригадиром». Выходит, теперь он — «предводитель цыган».
Цыганом стал вот как. Прошлым летом с теми же друзьями заглянули в один колхоз просить работу — там им отказали. Денег, говорят, много просите. Вот работали у нас цыгане — бороны ремонтировали, только две тысячи взяли.
«Хорошо, — подумал тогда Нарваткин, — и мы превратимся в «цыган». И уже в другом хозяйстве зарекомендовали себя «степными друзьями». За неделю по тысяче положили в карманы. Нет, не украли — побелили две фермы — и все заботы. Словно сельчане сами не могут опрыскивать стены…