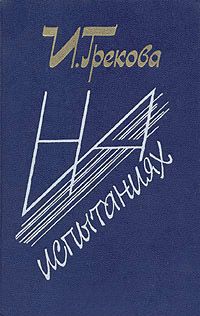А баба Рая умерла еще при Борисе. Толково умерла старуха, как говорят, в одночасье. Долго не лежала, никому не была в тягость. Всем бы так. Инфаркт — пожалуй, самая милосердная из смертей. Ребята потосковали и утешились. Борис, тот, кажется, и не тосковал. Уже был поглощен своей язвой. Я тогда не тосковала, тоскую теперь. Не так поступила, не то сделала. Жила со старухой в одном доме, но души в ней не увидела. А ведь была душа!
Душа, вероятно, была и в Борисе. Я в нее не вгляделась, не разглядела. А Милочка, наверное, разглядела, тем и взяла.
Это я теперь так думаю, а тогда…
И опять, и опять: другой человек это был, не я. Смотрю на себя тогдашнюю со стороны. Ничего бабенка, собой недурна, слишком самоуверенна…
Приятельницы в бабьих разговорах советовали не упускать времени, «устроить свою жизнь». Позорная формула! Как будто жизнь женщины, если она без мужа, «не устроена»… А у самих-то «устроенных» разве хорошая жизнь? У той муж пьет, у другой — болен, у третьей — бабник… Каждого накорми, обстирай, обслужи! Завидовать тут нечему…
Приятельницы: как же так? Еще молодая, интересная и без личной жизни? Отшучивалась: видно, не создана для личной жизни. Чего-то природа не отпустила. Работа была моей личной жизнью. Со своими радостями, горестями, поражениями. Со своими ритуалами. Церемониалами.
Больше всего любила церемонию утреннего обхода. Только что прошла пятиминутка — идем по палатам. Зав. отделением, лечащий врач, сестра с книгой назначений. Снежно-белая, торжественная процессия: халаты, шапочки, фонендоскопы. На лицах больных — ожидание: эти помогут, облегчат боль. И помогаем, и облегчаем. Каждой больной — улыбка, несколько ласковых слов…
Иногда, в особых случаях, рядом шествует приглашенный для консультации профессор. Светило. С ним говоришь предельно уважительно. Короткие, только посвященным попятные латинские термины. Предполагаемый онкологический диагноз скрывается особенно тщательно. Даже латинское чересчур известное «канцер» заменяется каким-нибудь дежурным эвфемизмом. Больной не должен знать о тяжести своего состояния, бередить себя мыслями о смерти.
Так-то оно так. Однако…
— Посиди со мной, дочка, — сказала мне однажды больная старуха (двусторонняя пневмония плюс эмфизема легких). — Сядь на мою коечку, побудь маленько. Тяжко мне.
На коечку не надо (негигиенично), а рядом — отчего же? Посижу.
Принесла табурет, присела.
— Нагнись ко мне, доча, — сипя, попросила больная, — хочу у тебя спросить. Больно личико у тебя светло. Глаза кари, щеки белы — самая красота. Цветут у тебя глаза.
Старухино лицо было тускло-красным. Утренняя температура — тридцать восемь, к вечеру повысится. И так уже который день. Антибиотики не помогают.
Нагнулась. Дыхание больной на щеке было ощутимо горячим.
— Ты мне скажи, дочка, как на духу: долго мне на этом свете маяться? Или пришла пора? Христом-богом молю, скажи!
— Что вы, баба Маня! Откуда у вас такие мысли? Не такая страшная ваша болезнь, чтобы от нее умирать! Лечим вас и вылечим.
«Врач должен вселять в пациента бодрость, надежду. Не допускать мыслей о возможном плохом исходе», — повторяла я про себя затверженные истины. В данном случае объективных оснований для бодрости не было. Положение бабы Мани было тяжелым, почти безнадежным. Обсуждая его на пятиминутках, мы ждали со дня на день летального исхода, даже как будто удивлялись, что старуха Быкова еще жива.
Глаза больной жидко блестели. Она вцепилась в рукав моего халата.
— Это я к чему, дочка? Это я не так, не ля-ля-ля спрашиваю, а по делу. Вещички у меня есть, не так, чтобы очень, а все-таки. Пальто, воротник-норка, позапрошлый год справила, почитай, и не носила, все жалела. Четыре простыни, два пододеяльника. Ложечка серебряная с дореволюции, ручка витая. Другое по мелочи. Вклад на сберкнижке сто десять рублей. Если скоро помру, надо бы разнарядку дать, по-старому, духовную. Родни никого, все померли, сыновья на войне пали, жены за других повыходили. Не распоряжусь — соседки растащат. Одна там очень уж оперативная. Тетя Маня, говорит, иду за хлебом, вам взять? А сама так и шнырит глазами, где что лежит. Нет, говорю, спасибо, ничего мне не надо. Помирать не боюсь, а добра своего жалко. Отказала бы все старинной подружке своей. Ровесница, а покрепче меня. Не родня, никто, а по чистой любви. Хлебом в голодуху делились. Ты уж мне скажи, дочка, не скрывай.
Сказать, что ли, мелькнуло в мыслях. Только мелькнуло, сказалось по-предписанному весело:
— Что вы, баба Маня! Поправитесь, долго еще проживете. Может быть, меня похороните. Придете меня хоронить?
— Приду, если бог приведет. Со цветами…
Назавтра, придя в больницу, я узнала от сдававшей дежурство сестры, что больная Быкова ночью умерла.
— Состояние было, в общем, стабильное. Вдруг цианоз, Чейн-Стокс, даже в интенсивку перевести не успели. Массаж сердца, дыхание изо рта в рот — все без результата.
Вот оно как.
С тяжелым сердцем пошла в ординаторскую. Там было тише и напряженней, чем обычно, и еще больше табачного дыма. Все-таки каждая смерть в отделении — для врачей тяжелая травма. А я-то чувствовала себя еще ответственней, чем остальные. Вчерашний разговор не шел из ума.
— Кира Петровна, ну что вы так переживаете? — спросил Главный. — В нашем деле излишние эмоции вредны. Берегите себя, будет больше пользы тем же больным.
Не ответив, махнула рукой и вышла.
Правды, только правды просила больная у своего врача, и в этой правде ей было отказано. Имеет же право человек приготовиться к смерти? Имеет. Когда-то умирающих больных соборовали, причащали. Готовили к переходу в иной мир. Теперь только казенная бодрость…
Правда. Правда… Нужна ли человеку такая правда? Одному нужна, другому — нет. Самые сильные духом готовы выслушать правду. Другим это только кажется, просят сказать им правду, а сами в глубине души хитрят, ждут обмана. Тянутся к надежде, пускай призрачной. Может быть. Права традиционная врачебная этика: всегда скрывать?
Нет, бывают исключения. Где-то незадолго перед тем читала «скорбный лист» болезни Пушкина, историю его последних страдальческих дней. По тем временам, при тогдашнем состоянии медицины рана была безусловно смертельной. Врачи не скрыли этого от Пушкина. Ставился вопрос: правильно ли они сделали? И давался ответ: правильно. Потому что это был Пушкин, человек исключительной силы духа.
Значит, Пушкину можно было сказать правду, а старухе Быковой — нет? Несправедливо.
Иной бодрячок спросит: для чего ей нужна была правда? Распорядиться нехитрым своим достоянием? Пальто с норковым воротником? Витая ложечка? Экие пустяки! Нет, не пустяки. Уважение к вещам не вещизм. Вещизм — от изобилия, уважение к вещам — от трудовой жизни. Уважают не вещи, а вложенный в них труд. Да, надо было, надо сказать бабе Мане правду. И нечего себя утешать, что она все равно не успела бы «распорядиться». Может быть, именно это помогло бы ей продержаться подольше. Формальности, подписи… Все-таки при деле.
Так или примерно так думала я, стоя в коридоре у горшка с фикусом. Ветерок, слабенький, шевелил занавеску. И вдруг где-то за плечом густой баритон:
— Кира Петровна! О чем вы так задумались?
Обернулась. Рядом стоял доктор Чагин — низенький, массивный человек, зав. отделением травматологии и ортопедии. Тяжелое, крупное, волевое лицо с янтарными, пронзительными, немигающими глазами. Такими глазами, должно быть, орлы смотрят на солнце. Железно-седые, густые волосы враскидку, каким-то острым клювом сходятся на лбу. Общее впечатление — недоброй, умной, насупленной птицы.
Он стоял, опершись на палку, кряжистую, витую, с загнутой ручкой. Говорили, что потерял ногу на войне. И, что еще страшнее, — семью. В больнице Чагин держался особняком, дружбы, даже приятельства ни с кем не заводил. Всех тут звали по имени-отчеству, а его почему-то не Глеб Евгеньевич, а доктор Чагин. Замкнут, ироничен, опрятно одет…
Стояли мы с ним у кадки с фикусом. В отделении было много цветов слабость старшей сестры. Этот фикус был особенный. На его верхушке красовался свежий зеленый побег — третий за зиму.
— Что это вы так пристально разглядываете? — спросил Чагин.
— Да вот на фикус смотрю.
— Что же вы в нем усмотрели?
— Упрямый субъект. В книге «Комнатные растения» сказано, что, если срезать побег у верхушки, фикус начинает ветвиться. А этот — ни в какую. Стрижем его, стрижем, а он все растет в одном направлении — вверх.
— Черта, достойная уважения, — серьезно ответил Чагин. — Его урезали, его искалечили, а он все остается собой.
Может быть, было неуместно говорить одному калеке о другом? Быстро переменила тему.
— Дело не в фикусе. Думала я о праве… праве знать.
Довольно путано изложила свои мысли по случаю смерти Быковой. Имеет ли больной право знать всю правду о своем состоянии? Приготовиться к смерти, если она неизбежна?