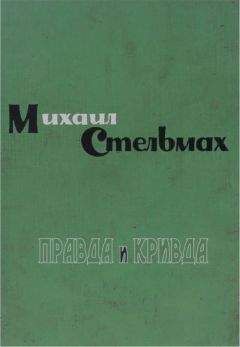«Не рано ли вы, дорогие, прилетели из далекого ирия? Видите, вам приходится отдыхать не на весенней земле, а на белых снегах». Марко осторожно подыбал к птицам, что плотно жались друг к другу в снеговом гнезде. Но они почему-то и не думали убегать от него, как не убегали во снах или видениях, когда он умирал. Или, может, и сейчас он видит сны и на самом деле перед ним только видением дрожали и небо, и прибывающая вода, и двое птенцов в холодном неуютном гнезде?
Марко, раскачивая тело, еще прыгнул вперед. Одна пташка обеспокоенно повела головкой и жалостным, ну, прямо детским глазом взглянула на человека, словно просила: не делай мне, человече, зла. Ты же властитель вселенной, а я мелкая пичужка.
«Не бойся, маленькая, я никогда не обижал ваш род, ни для забавы, ни для еды. Только взгляну на тебя», — молча ответил пичужке Марко. А она в это время, пошатываясь, встала на непрочных красных ноженьках и болезненно тряхнула проржавевшим серпом одного крыла. Марко изумленно увидел, что скромно испещренная грудь кулика и второе крылышко были окровавлены и пятно крови с несколькими перышками темнело на сыром снегу.
«Кто же тебя покалечил, беднягу, когда ты радостно со своей немудрой, но искренней песней-посвистом полетел в родные края? Или война, или хищная птица? И неужели ты собрался умирать, не дождавшись своей весны? Слышишь, не умирай, пичужка, живи и выводи свою песню, выводи деток, потому что без птиц и человеческое сердце станет черствее».
Марко обернулся, заковылял к саням, упал на них и начал удобнее умащиваться в своем гнезде. Сани снова запетляли дорожкой, а из памяти мужчины долго не выходила окровавленная птица и ее унылый глаз, в котором жалостно светилась человеческая скорбь.
— Вот и заехали! Теперь хоть вплавь бросайся. А чтоб тебя ездило вдоль, поперек еще и наискосок! — недовольно забубнил Федор и соскочил с саней.
— Чего, юноша, сердишься?
— А какой-либо гад за сегодня мост развалил, только зубья торчат.
В самом деле, единственная уцелевшая доска и истерзанные пеньки возле нее напоминали какую-то гнилозубую пасть, поджидающую свою жертву.
— Так вот, хочешь или не хочешь, а придется теперь, как забаламученной овце, кружить объездами до самой ночи. Нужны нам эти объезды на гниловодье, — Федько в сердцах потряс ногой подкрошившийся зуб моста, потом секанул его кнутом и недовольно повернул коней назад.
День клонился к вечеру. Солнце, вволю накупавшись в тучах и голубых прорубях, стряхнуло на снега венок лучей, бросило на небосклон сиреневые краски и легко впаялось в промерзший край земли. Из-под снега то здесь, то там начали выходить вечерние тени и туман, а в небесных погустевших разводах появлялись первые звезды. Война уже не беспокоила ни подольскую землю, ни небо, только беспокоила человеческую душу, более уязвимую, чем вся природа, даже вместе со своим наилучшим дитятей — солнцем…
Подумав об этом, Марко с удивлением увидел между вечерними вербами свою Еленку; к ней приближалось солнце, а она протягивала к нему свои красивые и кроткие руки. Потом, когда уже солнце начало прислоняться к плечу Еленки, мужчина понял, что это было совсем не солнце, а их единственная Татьянка. Она, как грибок, приросла к матери и жаловалась, что ей очень тяжело в немецкой неволе.
«Татьянка, дитятко, когда же ты говорить научилась? — спросил, не понимая, как в мире безнадежно перепутались года: его дитя погнали на далекие торжища людьми в ее шестнадцать лет. Так чего же он из уст грудного ребенка слышит такие страшные слова?.. Или, может, его изуродованная, искалеченная дочь в чужом краю имеет горем, насилием и стыдом родившегося ребенка?.. Лучше бы не дожить до такого позора…»
— Дядя, вы стонете. Очнитесь!
— Что? Федя, это ты?
— Конечно я, сам, своей парсуною, — засмеялся, вспоминая кем-то сказанное такое удивительное слово. — Снова что-то разболелось?
— Сон… разболелся.
— Сон? Это хорошо, что я его прогнал! — воинственно хлестнул своим трофеем.
А Марко еще отдирал от тела и души липучие опасения, навалившиеся во сне.
Вокруг стояла отволоженная вечерняя тихость, а в ней золотым мальком помалу колобродили звезды. Но не высокость небесная, а невидимое подземелье поразило мужчину: он из глубин его ясно услышал какие-то голоса, казалось, что это говорила сама изуродованная земля.
— Федя, ты слышишь?
— Слышу, — безразлично отозвался паренек.
— Кто же то гомонит в земле?
— Вот здесь дед Анисим, которому до сих пор восемьдесят шесть лет, — засмеялся, удивляясь, для чего деду надо приуменьшать года. — А по правую сторону проживает семья Гончаренко.
— Что же они делают под землей?
— Разве же вы забыли: все люди теперь у нас в земле живут, ее фашист не смог сжечь.
Так Марко и встретился после долгой разлуки с селом, о котором гений человечества[4] писал, что на Украине оно похоже на писанку. И вот эта писанка сейчас едва очерчивалась в темноте в беспорядке разбросанными кочками землянок и осиротевшими, снегом присыпанными печами, которые не только не грели людей, но и сами, как нищенки, дрожали от холода. То здесь, то там, прямо из подземелья поднимались тусклые столбы огня, и село казалось не селом, а скоплением измельчавших действующих вулканов. Вот ниже корней старой груши распахнулась глубина, засияло прямоугольное отверстие, а на его фоне, как в кино, задрожали человеческие тени, послышались голоса:
— Ой люди добрые, послушайте меня, глупую бабу, и сделайте по-моему, по-старосветски.
— Не послушаем, и не просите, мама. Какие же вы упрямые, — возмущался молодой женский голос.
— И в кого ты, бесовская дочь, пошла, такая непослушная та болтливая?
— В вас, мама…
— Га-га-га, — забухал, как в кадку, пожилой простуженный бас.
— Разве же теперь, люди добрые, можно без попа? Новорожденная душа должна святость чувствовать, а вы ее сразу в загс. Подрастет — тогда выпихивайте хоть и за все загсы и конторы, — не утихал первый женский голос.
— Ты утихомирься, Евдокия, и рассуди своей умной головой: где же это видано, чтобы сына героя и к попу?
— Теперь такое время, что на всякий случай дитя надо носить и к богу, и в загс, тогда из него прок выйдет.
— Не баламутьте, мама, миром. Крайне вам надо растревожить всех…
— Сама баламутка, каких земля не знала. И что только тот герой нашел в такой шкварке? Было к кому спешить аж из фронта, — и женщина громко всхлипнула.
Но ее сразу же начал весело успокаивать пожилой бас:
— Что это, Евдокия, с тобой? Это же крестины, а не похороны. Покисла немного — и подсыхай.
«Да это же старый Евмен». Лишь теперь по пословице узнал голос неугомонного и придирчивого деда. Марко хотел улыбнуться, но кто-то невидимый перехватил и улыбку, и дыхание, а по телу поползли мурашки. Неужели ты, человече, до сих пор не разучился волноваться?..
Земля внезапно проглотила свет и приглушила голоса двух миров, сошедшихся в одной маленькой землянке.
Спустя какой-то миг Марко с удивлением услышал, что где-то вверху обиженно загудели пчелы. Где же это видано, чтобы в мартовскую темень, когда вокруг лежит снег, летало теплолюбивое, похожее на капли солнца насекомое? Или он снова начинает грезить?
— Федя, не слышишь: будто пчелы гудят?
— Ну да, гудят, — сказал, как об обычном. — Что же им остается делать? Только гудеть. А если бы могли говорить, так и говорили бы, потому что и им пришлось за войну вытерпеть, словно людям.
— Не выдумываешь, Федя?
— Чего же выдумывать? Уничтожали фашисты людей, уничтожали и пчел. А когда горело село, так горели и ульи. Убегали люди куда подальше, убегали куда-то и пчелы. А как вернулись люди на пепелище, так вернулись и некоторые рои. Правда, только один из них не покинул села: покружил, покружил над пожарищем, а дальше и шуганул в одинокий дымарь. Оттуда пчелы вылетели совсем черными: или от сажи, или от горя потемнели. Ну, и не бросили они пасечника в беде: поселились в дымаре. И живут теперь пчелы выше человека!
Последние слова удивили и поразили Марка: вишь, как говорит малое, — и он с любовью взглянул на сосредоточенное лицо паренька.
— Ты, Федя, философ!
Но и этим не удивился малолетка: он лишь на один миг насторожился, а дальше спокойно ответил:
— А в такое время и философом не удивительно стать: есть над чем подумать людям.
— Ой Федя, Федя, — аж прижать захотелось паренька, но вражья нога мешала, и Марко снова пустил улыбку и в пучки морщин под глазами, и в неровность усов. — А в чьем же дымаре поселились пчелы?
— У Гордиенко.
— Так мы уже и Гордиенко проехали?
— Конечно.
— А я ничего и не узнал.
— Где же узнать в такой содоме. Вйо, чистокровцы!
Марку еще сильнее перехватило дыхание: это же рукой подать до его хаты. Хотя, до какой там хаты?.. И он так просверливает взглядом тьму, что аж глаза начинают щемить.