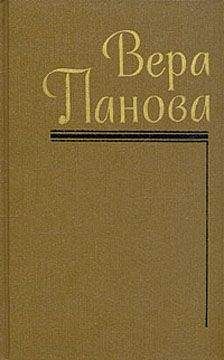Главных страстей у Лукьяныча две: годовой отчет и челн.
Во время составления годового отчета он просиживает в конторе ночи напролет, худеет, чернеет, лицо его выражает азарт, восторг и муку.
Летом он все свободное время плавает по речке на собственном челне, сделанном собственными руками.
— Это мой санаторий, — говорит он, — моя физкультура и отдохновение для нервной системы.
Работает он в совхозе пятнадцать лет; прошлой осенью справляли юбилей.
Сейчас в бухгалтерии заканчивают квартальный отчет. Яростно, вперебой щелкают счеты. Трещит арифмометр. Бороденка Лукьяныча и седые его волосы сбились на сторону, словно их относит ветром.
— Ну, Лукьяныч, все хорошо! — говорит Коростелев.
Лукьяныч мельком взглядывает на него и продолжает щелкать костяшками.
— Одну минутку, — говорит он. — Нет, не уходите! Присядьте на минутку, тут аварийный момент. Все хорошо? Ну, ну. Расскажите. Марья Васильевна, что там у вас слышно?
— Не могу найти, Павел Лукьяныч, — плачущим голосом отвечает помбухгалтера.
— Так! — с удовольствием говорит Лукьяныч, не отрываясь от своего занятия. — Все хорошо, говорите? — Он то перебрасывает костяшки (как-то особенно лихо и щеголевато, средним и безымянным пальцами правой руки), то записывает итог, то откидывается на спинку стула и задумчиво смотрит на часы. Вдруг бросается на них и снова принимается щелкать, нащелкал сотни тысяч, перебрался за полмиллиона — костяшки так и летают по проволочкам, вскидывает руку над счетами, как пианист над клавишами, и восклицает:
— Прошу убедиться! Вот они где, три копейки!
— Где, Павел Лукьяныч? — взволнованно спрашивает помбухгалтера и, бросив свой арифмометр, подбегает к Лукьянычу.
— Вот! — Лукьяныч вынимает из-за уха карандаш и указывает какую-то цифру в табличке.
— Вы подумайте! — говорит помбухгалтера и набожно уносит табличку к себе на стол.
— Только прошу вас, — говорит Лукьяныч Коростелеву, — рассказывайте по порядку, чтоб была полная ясность картины.
— В общем, Лукьяныч, — раскошеливайтесь.
И Коростелев рассказывает подробно, умалчивает только о нагоняе, полученном от Горельченко.
— Понимаете — подавай им кирпич, и только! Меня оторопь взяла: ну, думаю!.. И вдруг является союзник — колхоз Чкалова — с конкретной помощью.
— И вы сразу согласились! — говорит Лукьяныч.
— Почему же не согласиться?
— Я вас когда-нибудь научу жить? — спрашивает Лукьяныч.
— Нет, — говорит Коростелев. — Не научите.
— Напрасно, Дмитрий Корнеевич. Если бы я вас под неприятность подводил, а ведь это все легально и лояльно и в самых скромных размерах. Я сам не одобряю, если человек разжигает в себе большой аппетит: не при капитализме, слава богу, живем, ихние нравы нам не по климату — мы понемножку, в пределах законности!
— Вот честное слово, — говорит Коростелев, беря пресс-папье, — сейчас запущу.
— Ну что вы наделали, Дмитрий Корнеевич? Зачем согласились на предложение чкаловцев? Поручили бы мне… Их бы поманежить хорошенько, а потом предъявить меморандум: рабочая сила — силой, а кроме того, будьте любезны для наших служащих свининки, меда, то, се… У них меду — залейся, они же богачи, Дмитрий Корнеевич, миллионеры, а вы с ними церемонитесь!
— Слушайте, Лукьяныч, — говорит Коростелев, — если я узнаю, что вы что-нибудь вымогаете…
Он умолкает, не договорив: девушка-счетовод за соседним столом навострила ушки, помбухгалтера перестала крутить ручку арифмометра, прислушиваются к разговору… Не надо конфузить старика. При всех пережитках капитализма в сознании, Лукьяныч — великий специалист.
Поздно вечером Коростелев вернулся домой. Еще издали увидел — все три окошка ярко освещены. Обыкновенно в это время мать и бабка уже спали, умаявшись за день.
Коростелев мог бы жить в совхозе, но по холостяцкому своему положению предпочитал пока оставаться у матери на обжитом месте, где все подано-принято, не нужно думать о стирке, топке, стакане чая и прочей такой ерунде…
Бабка встретила Коростелева в сенях.
— В честь чего это у нас такая иллюминация? — спросил Коростелев.
— Гость тебя дожидается. Часа три уже сидит, байки рассказывает.
— Какой гость?
— Приезжий. Фамилию не разобрала.
Гость, услышав разговор, вышел в сени со словами:
— Дмитрий Корнеевич? Очень рад, будем знакомы: Гречка Иван Николаевич.
— Очень рад, — сказал и Коростелев, впотьмах пожимая гостю руку.
Вошли в горницу, на свет, и Коростелев был поражен великолепием гостя: на груди его сияли и переливались десятка два орденов и медалей. Левая щека была прорезана наискось глубоким шрамом, у левого уха не было мочки. Лет гостю было на вид не более двадцати пяти.
— Садитесь, будьте любезны, — сказал Коростелев.
На столе была постлана чистая скатерть, стояла еда.
— Я их просила кушать, — сказала бабка, — они отказались, ждали тебя.
— Покушать, бабуся, мы успеем, — сказал Иван Николаевич Гречка. Самое главное, бабуся, не угощение, а взаимопонимание и товарищеская поддержка между передовыми людьми. Вы согласны? — обратился он к Коростелеву.
— Да, поддержка — хорошая вещь, — ответил Коростелев, вспомнив сегодняшнее бюро.
— Я вам расскажу один случай, — сказал Гречка.
И рассказал, как часть, в которой он служил, вовремя пришла на помощь партизанскому отряду, теснимому фашистами, и как от этого худо было фашистам и хорошо нам. Лицо у Гречки было веселое, круглое, простодушное, шрам не портил его. Все, что Гречка говорил и делал, получалось складно, приятно — как надо. «Хорош парень, — подумал Коростелев. — Каким ветром его к нам занесло?»
— Издалека приехали? — спросил он.
— Из Белоруссии, — ответил гость. — Из замечательной страны Белоруссии. Председатель колхоза имени Сталина. Уходил на войну бригадиром молодежной бригады, только и всего; вернулся — избрали председателем. Такие в нашей судьбе на каждом шагу бывают чудеса… А порушили проклятые — всё как есть! Оставили голую местность и колодцы с трупами. Каждый дом, каждое строение ставь с самого начала. Сейчас ничего, туда-сюда, отдышались, самым главным обзавелись, государство сильную дает поддержку! А было такое — выйдешь, понимаешь, на пахоту, а пахать нечем! И сотни глаз смотрят на тебя — вдовьи глаза, сиротские глаза: указывай, мол, что делать, подавай выход из положения… Эх! Дмитрий Корнеевич, я вам расскажу один случай…
И Гречка рассказал десять случаев из жизни колхоза, где половина людей полегла в борьбе с оккупантами, а другая половина после победы вернулась на пепелище и стала восстанавливать родное хозяйство.
— Дмитрий Корнеевич, ты человек не бездушный. Я думал, откровенно говоря, что ты бездушный человек, а у тебя вон слезы на глазах!
И у самого Гречки были слезы на глазах.
— На каком же ты основании думал, что я бездушный человек? — спросил Коростелев.
— Я тебе писал, и ты не ответил.
— Ты мне писал?
— Брось! Не говори, что не получал. Почта работает — будь спокоен. Ты получил письмо и не ответил. Я тебя очень ругал, вот откровенно говорю. Даже на собрании ругал, и люди высказывались не в твою пользу. Откровенно говорю! Ну, ответил бы, что не можешь. А ты мое письмо, от сердца написанное, — в корзинку, да?
В совхоз иногда приходили письма от колхозов. Колхозы писали все об одном и том же — нельзя ли, минуя формальности, приобрести у «Ясного берега», из прославленного его скота, племенного бычка. Коростелев вначале прочитал пару таких писем, потом велел переправлять колхозную корреспонденцию Иконникову — и забыл о ней. Очевидно, среди этой корреспонденции, которой он даже не видел, было и письмо Гречки.
Гречка говорил, похлопывая Коростелева по плечу:
— Бюрократ, думаю, собачий… И хотел с тобой поговорить очень крупно! Когда смотрю — а у тебя дом хуже, чем у моих колхозников, и хорошие книги на полочке, и бабуся про тебя немножко проинформировала… Тут я понял, что ты мне друг и между нами чистое недоразумение.
— Из всего этого делаю вывод, — сказал Коростелев, — что приехал ты с крупным мероприятием.
— У нашего колхоза мелких мероприятий не бывает, — сказал Гречка. — У нас те масштабы!
— Догадываюсь, — сказал Коростелев. — Видать, не прогадал колхоз, что выбрал тебя председателем.
Гречка чистосердечно рассмеялся:
— Обижаться не могу: приду к человеку лично, поговорю по-хорошему отказа нет ни в чем. Уважают люди Гречку…
— И ко мне, значит, пришел лично.
— И к тебе лично. Выкроил недельку — мы в основном отсеялись — дай, думаю, съезжу, поругаюсь, объясню положение. Опять не получилась ругань, а получился приятный разговор… Эта твоя бабуся очень развитая. Мы тут без тебя даже об астрономии беседовали.